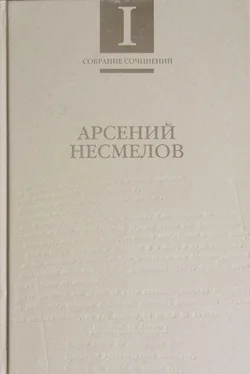И льется по грядам ленивой
Струей ледяная вода, —
Не даст ни растения нива
Без каторжного труда.
Китаец, до пояса голый,
Из бронзы загара литой,
Не дружит с усмешкой веселой,
Не любит беседы пустой.
Уронит гортанное слово
И вновь молчалив и согбен, —
Работы, заботы суровой
Влекущий, магический плен.
Гряда, частокол и мотыга,
Всю душу в родную гряду!
Влекущее, сладкое иго,
Которого я не найду.
«Над обрывом, рыж и вылощен…» [224]
Над обрывом, рыж и вылощен,
Иностранец-рыболов.
Гнется тонкое удилище.
«Не с добычей ли? Алло!»
На воде — круги и полосы.
Натянулась леска вкось.
Тусклый голос, скучный голос:
«Понимайте, сорфалось!»
И опять застыли оба мы,
И немую ширь реки
Гладят пальчиками добрыми
Голубые ветерки.
Даль речная как плавило —
Вся из жидкого огня…
Сколько раз судьба ловила
На крючки свои меня!
Сколько раз, как мистер этот,
Эта клетчатая трость
(Знать, крючка такого нету!), —
Сокрушалась: «Сорвалось!»
Но не надо бы бахвалиться —
Похваляться хорошо ль?
Поплавка грозящий палец
Мигом под воду ушел.
И маши теперь удилищем,
Чертыхаясь что есть сил…
Иностранец, рыж и вылощен,
Даже глаза не скосил.
«Бывают золотые вечера…» [225]
Бывают золотые вечера,
Бывают медленные мгновенья,
Когда печаль, уснувшая вчера,
Опять, опять на сердце вяжет звенья
И говорит в спокойном увереньи:
«Пора, мой друг, уже давно пора!»
И голос тот — как добрая пчела,
Поющая о меде и цветеньи:
Она летит у самого чела,
Не отстает, полет свивая в звенья,
В те страшно-медленные мгновенья,
В те дымно-золотые вечера.
«С головой под одеяло…» [226]
С головой под одеяло,
Как под ветку птаха,
Прячется ребенок малый
От ночного страха.
Но куда, куда нам скрыться,
Если всем мы чужды?
Как цыплята под корытце,
Под крылечко уж бы!
Распластавшийся, — кругами
В небе Рок, наш коршун.
Небо синее над нами —
Сводов ночи горше!
Пушкин сетовал о няне,
Если выла вьюга:
Нету нянюшек в изгнаньи —
Ни любви, ни друга!
«Пустой начинаю строчкой…» [227]
Пустой начинаю строчкой,
Чтоб первую сбить строфу.
На карту Китая точкой
Упал городок Чифу.
Там небо очень зеленым
Становится от зари
И светят в глаза драконам
Зеленые фонари.
И рикша — ночная птица,
Храпя, как больной рысак
По улицам этим мчится
В ночной безысходный мрак.
Коль вещи не судишь строго,
Попробуй в коляску сесть:
Здесь девушек русских много
В китайских притонах есть.
У этой, что спиртом дышит,
На стенке прибит погон.
Ведь девушка знала Ижевск,
Ребенком взойдя в вагон.
Но в Омске поручик русский,
Бродяга, бандит лихой
Все кнопки на черной блузке
Хмельной оборвал рукой.
Поручик ушел с отрядом.
Конь рухнул под пулей в грязь.
На стенке с погоном рядом —
И друг, и великий князь.
Японец ли гнилозубый
И хилый, как воробей;
Моряк ли ленивый, грубый,
И знающий только «Пей!»
Иль рыхлый, как хлеб, китаец,
Чьи губы, как терки, трут, —
Ведь каждый перелистает
Ее, как книжку, к утру.
И вот, провожая гостя,
Который спешит удрать,
Бледнеющая от злости,
Откинется на кровать.
— Уйти бы в могилу, наземь!
О, этот рассвет в окне!
И встретилась взглядом с князем,
Пришпиленным на стене.
Высокий, худой, как мощи,
В военный одет сюртук,
Он в свете рассвета тощем
Шевелится, как паук.
И руку с эфеса шашки,
Уже становясь велик,
К измятой ее рубашке
Протягивает старик.
И плюнет она, не глядя,
И крикнет, из рук клонясь:
«Прими же плевок от бляди,
Последний великий князь!»
Он глазом глядит орлиным,
Глазища придвинув вплоть.
А женщина с кокаином
К ноздрям поднесла щепоть.
А небо очень зеленым
Становится от зари.
И светят в глаза драконам
Бумажные фонари.
И первые искры зноя —
Рассвета алая нить —
Ужасны, как всё земное,
Когда невозможно жить.
Читать дальше