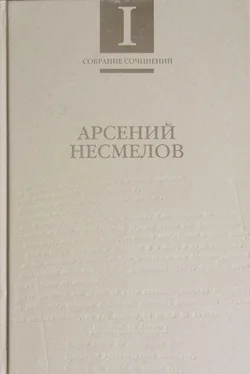Когда придет пора сразиться
И ждут сигнального платка,
Ты, фехтовальщик, став в позицию,
Клинком касаешься клинка.
За этим первым ощущением
Прикосновения к врагу
Как сладко будет шпагу мщения
О грудь его согнуть в дугу…
Но нет, но нет, не то, пожалуй:
Клинок отбросив на лету,
Я столько просьб и столько жалоб
В глазах противника прочту.
И, салютующий оружьем,
Скажу, швырнув в ножны клинок:
«Поэты, смерти мы не служим, —
Дарую жизнь тебе, щенок!»
РАССТРЕЛЯННЫЕ СЕРДЦА («Выплывут из дальности муаровой…») [219]
Выплывут из дальности муаровой
Волга и Урал.
Сядет генерал за мемуары,
Пишет генерал.
Выскребает из архивной пыли
Даты-светляки.
Вспоминает, как сраженья плыли,
Как бросал полки .
И, носясь над заревом побоищ,
В отзвуках «ура», —
Он опять любуется собою,
Этот генерал.
Нам же, парень, любоваться нечем:
Юность истребя,
Мы бросали гибели навстречу
Лишь самих себя .
Перестрелки, перебежки, водка,
Злоба или страх,
Хрипом перехваченная глотка,
Да ночлег в кустах.
Адом этим только на экране
Можно обмануть.
Любят разжиревшие мещане
Посмотреть войну .
Любят в мемуарах полководцев
Памяти уют,
Ибо в них сражение даетс я,
Как спектакль дают.
Не такою вздрагивают дрожью,
Как дрожал солдат…
Есть и будут эти строки — ложью
С правдой цифр и дат!
Ложью, заметающею зверств и
Одичаний след.
А у нас — расстрелянное сердце
До скончанья лет.
СОЗРЕВШАЯ ОСЕНЬ («Окно откроем, и не надо…») [220]
И, напевая, вдохнул созревшую осень.
Уот Уитмен
Окно откроем, и не надо
Курить без передышки… Встань.
За ночь бессонную награда —
Вот эта розовая рань.
Вот эта резвая свобода
Порвать любой тревоги счет.
Гудок какого-то завода
Уже на улицу зовет,
И свежесть комнату ласкает…
Смотри-ка — девушка бежит,
Ее торопит мастерская,
Улыбкой взор ее дрожит.
И, как два яблока на блюде
(Горжусь сравнением моим!),
Она несет две спелых груди
Под тонким джампером своим.
Но рано думать о десерте,
Плотским желанием горя…
Кто из поэтов запах смерти
Учуял в зовах сентября?
Он просто лжец! С какой отрадой
Я пью хрустальное вино,
И, право, всё, что сердцу надо,
В глотке смакующем дано.
ВОЗВРАЩЕНИЕ («Юноша, как яблоко, румян…») [221]
Юноша, как яблоко, румян,
От родных уплыл за океан.
Жил безвестно он в краю чужом,
Счастье он нашел за рубежом.
Зрелым мужем, весел и богат,
Странник возвращается назад.
Вот и дом. Стучит… Ответа нет…
Вышел потревоженный сосед.
«Где отец мой?» — В ветре шелестит:
«Твой отец на кладбище лежит.
Холмик неоправленный сдвоя,
Рядом с ним и матушка твоя…»
«Где мой брат?» — И голос отвечал:
«Брат твой нищим попрошайкой стал.
Где-нибудь в трущобе, вниз лицом
Он лежит, исколотый шприцом».
«Где сестра?..» — Приезжему сосед
Почему-то медлит дать ответ.
Хлопнул дверью; доплеснула мгла
Черным ветром: «Лучше б умерла!..»
Город черен, грозный город спит.
Рыжий котик возле ног пищит.
Взял зверька под теплое пальто,
А глаза — к звезде. В глазах: «За что?..»
«Опустошен, изжеван, как окурок…» [222]
Опустошен, изжеван, как окурок,
И все-таки упорней, чем обет, —
Истрепанный предшественником Нурок:
«The boy is good. The book is very bad».
Зачем ему?.. Чужой язык — что крепость
Сорокалетнему: ее не окружить.
Не иллюзорна ли вся наша цепкость,
С которой мы хватаемся за жизнь?
И думаешь: вот так туберкулезный
Порой себе внушает аппетит,
А смерть уже своей косою грозной
Над согнутой спиной его звенит.
Зловеще нависающего мига
Не отстранить, не выползти из рва,
И нам нужна единственная Книга,
В которой есть об Иове слова.
ГРЯДА («Щетина зеленого лука…») [223]
Щетина зеленого лука
На серой иссохшей гряде.
Степные просторы да скука,
Да пыльная скука везде!
Вращает колеса колодца
Слепой и покорный ишак,
И влага о борозду бьется,
Сухою землею шурша.
Читать дальше