1985
Затих ветров невидимый орган,
застыла молча траурная месса
среди стволов, закутанных в туман,
разъединивший неделимость леса.
И лишь одна осталась в мире связь,
которую мы принимаем слепо,
из века в век вплетая корни в грязь
и устремляя наши ветви в небо.
1980
Ветер выдувает из осени чешский хрусталь.
Босоногие девушки бродят по первому льду.
Поздним утром с холма видно морозную даль
до солнца, продетого в золотую черту
горизонта, натянутого до блеска.
Слышен смех обнаженных натурщиц,
кисть хрустит по холсту, как стамеска
или нож, расщепляющий устриц.
Молодое вино на искрящемся кончике света
продолжает бродить и кривляться
в прозрачных пространствах сюжета.
Отпечатками пальцев
играет янтарная линза,
сизой дымкой, вуалью
ложится на рыжие лица,
отражая в палитре окно, беспорядок постели
и невнятную трель залетевшей на завтрак свирели.
Столбики границы —
закрытого века ресницы.
Ворочаюсь с бока на бок,
считаю столбы. Не спится.
В альбоме фотографическом
есть светлые страницы —
в окнах ночного города
знакомым моим не спится.
А по кольцу Садовому,
по садику вишневому,
к будущему неновому
катятся машины.
Нет пешеходов – поздно.
А машины гудят и катятся.
Во времени запророченном,
как в лифте обесточенном
дверь не открывается,
не спится, не читается.
В бинокль не слышно.
Какие бы линзы…
Какие бы фразы
там, в окнах напротив,
махая руками,
не произносили,
какие бы вазы
ни били.
А, может быть, издали
их наблюдая,
как юные идолы
немолодая
особа
придумает быль
про себя молодую
для толстых соседок,
для лестничных клеток
сырого беззвучья.
Придумает правду
про то, как любилось,
про сколько сервизов
хрустальных побилось,
и охнет толстуха
соседка
подруга:
«Скажите на милость!»
Он был капитаном
с блестящим наганом,
а жил в коммуналке.
Курил папиросы,
когда все соседи
цедили цигарки.
Мы так целовались,
вовсю целовались,
взасос целовались.
По сей день не знаю,
как живы остались.
– Где те офицеры? —
с тоскою промолвит толстуха.
– На память – бинокль.
И канул. Ни слуха, ни духа.
У Набокова слово похоже на серп и молот.
Небо делает жест —
раздвигает, как ноги, тучи.
Я не видел ни разу в жизни
ячменный солод,
но зато пил пиво. Наверное, это круче.
Что базарить впустую
про духа, отца и сына.
Я не знаю их, не знакомился, не встречался,
не стучу про них даже пульсом,
поскольку имя
Бога
не подвластно сбивчивым ритмам вальса,
что танцует со мной охранник
в пустом продоле.
Лишь немой паук
да Марфинькины проказы.
За рубашкой в комод полезешь,
но столько моли,
что не сможешь додумать день
до последней фразы.
Покажи мне фонарь с дымком
и природным газом
не на дряблом снимке,
а в уличном интерьере.
Посмотри, как сморщился лоб
над копченым глазом.
Да воздастся каждому не по вере,
а по глупости.
То-то пизанских башен!
То-то будет смешон,
кто казался зловещ и страшен.
Горы, когда их видишь во сне
или когда в форточку,
на фоне вечернего неба —
белые вершины,
повисшие в темно-синем,
многозначительны,
как библейские притчи.
Зачем смотреть в микроскоп на буквы —
слова теряются, не говоря о большем.
Иногда в морсе
остаются настоящие ягоды клюквы,
но при этом они
становятся кислее и горше.
Потому что сироп
не подходит сосне по стилю,
потому что горы во сне
я еще осилю,
а вот склоны под скос
и ущелий серость,
словно морс из камней,
мне уже приелась.
Я видел шар земной на твоей ладони,
мне не нужно ближе, не надо кроме
той картины
других перспективных углов,
прозрений —
лишь бы линия жизни земной
не была мгновенней.
Тела посещаются светом.
Костюмы и платья, порой,
иным увлекаясь сюжетом,
бывают не только собой.
В них кружатся звездные вихри,
вздымая волну за волной,
в них помнятся лучшие книги,
соперничая с тишиной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
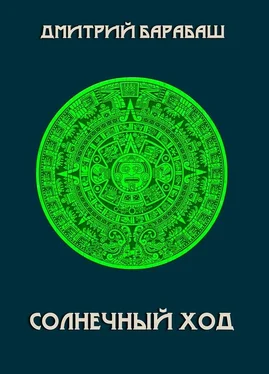





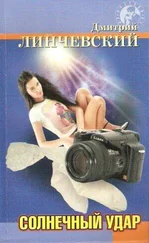

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


