Мы меняли эпохи,
седея в незримом движеньи.
Занесли только ногу.
И вот, оглянувшись назад,
видим там отраженье свое,
молодое, ей-богу,
даже зубы на месте.
И в жилах, как будто течет
еще синяя кровь —
не окрашена черной разлукой,
и надежды маячат,
и девочки машут в окно,
и улыбки застыли,
как будто смеются над скукой
наших выжатых тел,
потерявшихся где-то давно.
Трудный вымысел мой
несущественней уличной пыли.
В сладком иле, как в Ниле,
петляют иные миры,
о которых, боясь и смеясь,
на земле говорили
всякий раз, когда плыли
под черной водой корабли.
Когда скат поднимал из песка
иероглиф сознанья,
нарисованный бликом восхода
в хрустальной волне,
на губах ощущалась улыбка
всего мирозданья
и всех будущих жизней,
уже воплощенных во мне.
За каждым выбором скрывается дорога,
не пройденная миг тому назад.
Казалось, шансов бесконечно много.
Ошибки выправят и шалости простят.
Но что же стало с правильной тропинкой,
оставшейся и скрывшейся в нигде?
По солнечному лучику пылинкой
жизнь пролетит, не помня о беде,
которая ее подстерегает
за каждым «мимо», «возле», «не туда».
Свет исчезает, вечер нарастает,
как ветер времени. Ни судей. Ни следа.
Убей себя не пулей в грудь,
лишившись и земли, и рая,
а просто про себя забудь.
Убей себя, не умирая.
Сдувая пыл самоубийц
холодной и спокойной тенью,
убей себя полетом птиц.
Пари наперекор паденью.
Тогда и слово, и рука,
черты лица и тембр речи
вольются в русло, как река,
смывая страсти человечьи.
Как это здорово, читая,
придумывать другой сюжет,
с героем вместе оживая,
пронзив неправильный портрет,
впитавший ложь, ужимки, скуку,
как пресс-папье чужой души.
– Скорее, Грей, ты видишь руку?
Вставай! Ступай и не греши.
Я пел в «Арагви» за цыплят, за банку водки.
Я пел за визу, за свободу, за дозняк.
Мне из гитары сделали колодки
и выставили голым на сквозняк.
На поводке веду свою галеру —
ЦэКня, ГэБня и воровская масть.
Мне лилипуты, как вино Гульверу,
вливают олово в разинутую пасть.
Удушье в трюме, в маковом дурмане,
заходит солнце желтым фонарем.
На всякий случай у меня в кармане
всегда лежит платок с нашатырем.
Веду страну на поводке, как суку,
а за спиной то хохот, то плевки,
но оглянусь, она лизнет мне руку,
как будто бы играя в поддавки.
Ночь впереди – ни волн, ни звезд, ни неба.
Иду, ногами не касаясь дна.
Я не бегу. Я вышел из вертепа.
И с ваших глаз упала пелена.
От черного камня, от капли пещерной воды,
охотничьих ям, языков первобытных огней —
туда, где в листве изумленной
цвели золотые сады
кисло-сладких и терпких,
и брызжущих солнечным соком
вечно спелых плодов,
по тропинкам пустынь
к анфиладам дворцов,
к пирамидам,
к костельным хоралам,
полукружьям церквей православных,
кострам инквизиций,
окрыляющим крик,
черным облаком грающих птиц, —
до сияния спиц
паровой ветряной колесницы,
электрической сини,
секущей пространство, как плеть,
к нефтяным берегам,
к многотонным небесным машинам,
к сталеварам сознаний
и белому свету печей,
к погребальным грибам
Хиросим, Нагасак и Полыни
растеклось,
разметалось сыпучей бесспорностью спор.
Круг замкнулся.
Куда прорастет это племя?
Гармония размеров не имеет,
мгновение продлится навсегда.
Пока растут леса и каменеют,
возводятся и гибнут города.
Рождаются, мужают и стареют,
влюбляются, краснеют от стыда.
Весь мир объят одной великой сетью
творения, где каждый лепесток
имеет вес всего, что есть на свете.
Так солнце отражается в поэте,
рождаясь из фантазии его.
Представь себе искристую лыжню
по бесконечно-белому простору.
Ты можешь сбоку начертить и гору,
и лес вдали, и скорую весну
(наметить желтым бликом на снежинке),
и след лисы, и перышко сороки,
и хвойный дух. Мир оживает сам.
И даже в этой правильной картине
мы оставляем место чудесам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
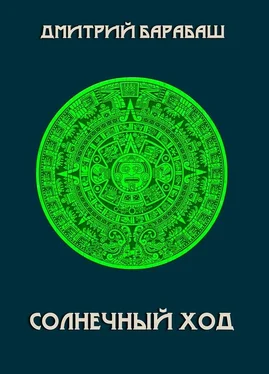





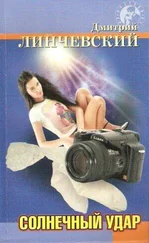

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


