Ты искала меня,
проклиная больничную старость,
завлекавшую в белый,
крахмально-стерильный загон,
и со страха бросалась
в такую бесцельную ярость,
что смирить ее мог
лишь лекарствами вызванный сон.
А когда приходил я —
выслушивал тысячи сказок.
Только я не любил
этот дом, этих марлевых масок
и резиновых рук,
говорившего хрипло хирурга,
потолка, на котором
потрескалась вся штукатурка.
А когда приходил,
я пытался тебе улыбаться.
Медсестрица просила
бодриться, бодрить, не срываться.
Слушал сказки твои
о свободных волках и о львицах,
и о богатырях,
о жестоких грузинских царицах,
о китайцах,
которые ели собак и лягушек,
о всесильи бумаг
и всеведеньи женских подушек
(в них просоленный пух,
в них слезами пропитаны перья.)
Слушал сказки об
омутах мук,
когда всё,
что ни есть —
суеверья.
Когда всё об одном —
о пропавшем в безвестии друге:
«Жив ли он,
или он
пал в проколотой
сзади
кольчуге?»
Я наслушался сказок,
но жаль слишком мал был для были,
а теперь эту быль,
как чердачную пыль,
позабыли
и забили крест на крест
тот дом, всеми брошенный,
или
из него всех жильцов
навсегда уже
переселили?!
Я наслушался сказов
о княжествах, драках,
о чести
и вдвойне —
о войне —
о поклепах,
погонях
и мести…
Об огне и сиротстве,
о голоде и
благородстве…
О больнице лесной,
где лечили от стрел и капканов
ключевою водой
и страстями звериных романов.
А порой ты мне пела
романсы с цыганским задором,
и тогда мне казалось,
что мы за высоким забором.
А за ним начинались дороги,
леса с чудесами.
Я добрался до них, слыша голос твой
за небесами.
1980
Старый цирк снесли неслышно,
не оставив и фасада.
Обещали, что оставят,
но потрескался фасад.
Раньше я шатался часто
от Колхозной до Арбата,
напевая Окуджаву,
не на память, наугад.
Мне теперь не до прогулок:
Колобовский переулок,
мой любимый, изменился,
растерял свое тепло.
Где была друзей квартира —
там теперь контора МУРа,
где мой папа был директор —
там вакансия теперь.
В желтых окнах винзавода,
за решетками, бутылки
проезжали звонким строем
в наполнительный отсек.
Сколько жил в Москве – не ведал,
как добраться до Бутырки,
а теперь из любопытства
я расспрашиваю всех.
Старый цирк снесли неслышно, не оставив и фасада.
Обещали, что оставят, но потрескался фасад…
Метель раскручивала землю,
как карусель худой бездельник,
руками упираясь в спины
идущих по лесной дороге,
в заборы, в крепости, в остроги,
и в круговерти на смотрины,
как будто к смерти
черный ельник
нас затащил перед вечерней,
стянул в кюветы с середины
дороги, ведшей к той вершине,
где наши прадеды и деды
обряды древние вершили.
Метель металась над погостом,
как ветром сорванная простынь
с веревки бельевой у дома,
которым управляет дрема
в теченье медленного часа,
пока хозяйка в людной церкви
рыдает пред иконостасом.
Метель над кладбищем металась —
бела и холодна, как старость,
и об распятья ударялась,
по ним сползала на холмы.
Метель. А где же были мы?
Где наша молодость осталась?
С какой завьюжной стороны?
Сдуваем ветром, благовест
из-за сугробов раздавался —
звон колокольный в ритме вальса.
Для нас, бежавших от невест.
Для них – которым Бог судья,
которым боль несносней злобы.
О, Господи, какие тропы
даруешь бросившим меня?
Метель.
И мокрый снег по пояс.
Декабрь это или совесть?
Быть может сон?
Быть может бредни?
Но хоть к заутрене,
к обедни
прийти б…
1981
Родина, ты песня недопетая,
от которой пробирает знобь.
Деревца игриво машут ветками,
Когда пашет землю землероб.
И комбайн не просто трактор с кузовом,
А баян, трехладка, скрипунок.
Кто проходит мимо – слышит музыку.
Это землю роет землероб.
Черви дождевые перепаханы
На здоровье чаек и ворон.
И дурманят нас хмельные запахи
Проходящих рядышком коров.
А комбайны, да раскомбайны,
словно лабухи,
разыграли трудовой ансамбль.
И начальник
сходит к нам по радуге.
Сам бль…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
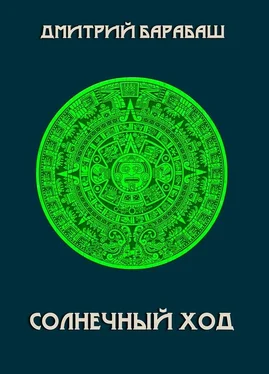





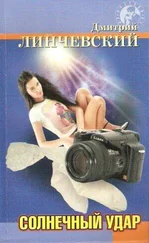

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


