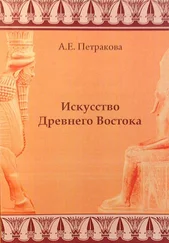История показывает, что периоды всевозможных кризисов, войн и социальных катастроф — это всегда были времена, когда люди начинали вдруг все судорожно и наспех переименовывать. Достаточно вспомнить чудовищную лексику времен русской революции и гражданской войны. Иногда в такие эпохи просто ставился вопрос о переходе на другой язык, потому что старый воспринимался как ненеймингоспособный. Так, Лев Троцкий во время Гражданской войны распорядился, чтобы неграмотные красноармейцы в перерывах между боями учили язык эсперанто, потому что только на этом, «не испорченном буржуазией», языке, по мнению Льва Давидовича, могли говорить настоящие пролетарии и только эсперанто мог стать основой нового пролетарского нейминга. Чем, в сущности, современные полуграмотные менеджеры, говорящие на так называемом ринглише (Russian + English) лучше эсперантствующих красноармейцев?
Не умнее вели себя деятели французской революции, а также китайской, камбоджийской, гаитянской и всех остальных.
Наломал «нейминговых дров» и наш Петр I. Он писал и рассылал по России такие непонятные указы-решкрипты, которые никто не понимал. Чиновники на местах, не знавшие других языков, умоляли, чтобы вместе с указом прибыл тот, кто мог бы его растолковать. Чиновники просто не понимали, чего от них требуют. Тем более что и русские слова не очень грамотный император коверкал чудовищно. Он писал на отчаянно макароническом языке [4] Макароническим (заимствовано от итальянского слова «макароны») называют такой язык, в котором искусственно соединены элементы разных языков, типа пушкинского «Я не могу дормир в потемках» («Дубровский»). Или хиппейского: «Три герлицы под виндом пряли поздно ивнингом». Или: «Надо арбайтен унд копайтен». Петр I любил сочетать в своих указах русские, немецкие, голландские и другие слова. Получался совершенно «нечитабельный» текст. Термин «макаронизм» чрезвычайно актуален для современного бизнес-языка, в котором пышным цветом цветут русско-английские макаронические неологизмы. В общем, это отчасти та же лингва франка, о которой шла речь выше.
.
К сожалению (или к счастью?), как не трудно догадаться, мировой нейминг как глобальный процесс ежеминутного, ежесекундного называния миллиардами людей миллиардов реалий, понятий, эмоций и т. д. — во многом, если не во всем, процесс спонтанный. И тем не менее люди упорно пытаются им управлять.
Опять же — вернемся к древним. Они на самых разных языках — от латыни до японского — говорили: «Власть у того, кто правильно называет». Хорошо известно из психологии, что люди с сильным инстинктом власти обязательно обладают отличной памятью, в частности, на имена людей, своих подчиненных. Все удачные, состоявшиеся политики, предприниматели и т. п. обязательно помнят тысячи имен и фамилий (а в России еще и отчеств!) своих сотрудников, подчиненных, партнеров и конкурентов.
В наши дни мы любим повторять расхожую фразу, что «власть — это владение информацией». Все так. Но правильней было бы сказать: «Власть — это владение кибернетикой», т. е. наукой об управлении информацией. А управление информацией подразумевает опять же именование.
Мы можем гордиться тем, что первым, кто заговорил об этой проблеме, был наш соотечественник А. А. Богданов (Малиновский), написавший в 1913–1917 гг. книгу под названием «Всеобщая организационная наука». Эту науку он назвал тектологией. Его интересовал вопрос: как, на основе каких глобальных принципов организовать жизнь общества во всех его проявлениях. В сущности, в этой книге изложена значительная часть тех наук, которые мы сейчас называем теорией информации, кибернетикой и неймингом. Управление — это и есть выверенная стратегия (и тактика) нейминга.
Так что — куда ни глянь — всюду нейминг!
Конечно, в нашей книге, как уже было сказано, речь пойдет преимущественно о нейминге в различных сферах коммерции, бизнеса и рекламы.
Но, повторим еще раз, разобраться в них можно лишь в том случае, если мы базируем свои выводы на четкой и прочной методологической базе общего нейминга. А здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд…
Все ученые-гуманитарии хором говорят: в современном мире разработаны тысячи и тысячи всевозможных методик и техник, но мир испытывает колоссальный дефицит методологии, т. е. некой системы глобальных принципов, позволяющих организовать те самые тысячи разрозненных техник и методик и направить их в единое стратегическое русло. В конечном счете, тот самый пресловутый финансовый кризис, свидетелями которого мы все стали, — это кризис методологии, кризис отсутствия стратегии, причем далеко не только в сфере финансов.
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)