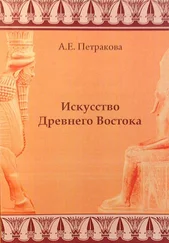Вся эта чехарда тактик и броуновское движение техник и методик происходят из-за многих причин. И одна из главных — отсутствие того, что лингвисты называют лингвистической конвенцией, или языковым договором между людьми, корпорациями, народами, кланами и т. д. и т. п.
Мы одни и те же вещи называем по-разному, называем их неверно, обижаем их или их владельцев, ошибаемся в определениях и т. д. и т. п.
В нашем современном российском нейминге не хватает системности. Иначе говоря, у нас нет четкой и яркой методологии нейминга.
Что такое система? Все знают вроде бы, что это такое. Но на деле знают далеко не все. Опять же (основываясь на опросах студентов-гуманитариев МГУ и других московских вузов): не более 15 % информантов смогли объяснить, что это такое. Около 45 % путали систему с классификацией.
Напомним: система (минимум — два элемента) — это неразрывная взаимосвязь по принципу: если А, то Б, если Б, то А. Например, если я дядя, то у меня должен быть племянник. Если я племянник, у меня должен быть дядя. Если у меня нет племянника — я не дядя. Если у меня нет дяди — я не племянник. Это пример, постоянно приводившийся выдающимся русским лингвистом XX в. М. В. Пановым. Соответственно книга и читатель — это не система. У вас может быть книга, но вы ее не читаете (не дай Бог, чтобы нашу книгу постигла такая участь!) Или: я могу читать, но не книгу, а, пардон, неприличную надпись на заборе… Так что система — это не так просто, как может показаться с первого взгляда. Путаницу тут вносят и такие маститые ученые, как, например, Умберто Эко, который отождествляет термины «система» и «структура». Но Бог с ним, с Эко. Вернемся к методологии.
По совести говоря, не так уж радужно обстоят дела и на Западе. Разумеется, там есть чему поучиться. Но есть и много отрицательного материала.
Отрицательным этот материал можно назвать потому, что в западноевропейском мыслительстве второй половины XX — начале XXI в. преобладала и преобладает общая пессимистическая тональность. Особенно усердствуют в пессимизме французы. Пессимизм этот касается и всей среды гуманитарного знания в целом, и человеческого языка в частности, вернее — отношений человека и слов, терминов и т. д. Основная мысль, высказываемая многими философами, примерно такова: человек полностью утерял власть над языком. Теперь не человек управляет языком, а язык управляет человеком. Об этом буквально хором говорят ученые-мыслители, которых можно называть семиологами, семиотиками (или постсемиологами, постсемиотиками), постмодернистами, постструктуралистами, деконструктивистами и т. д. и т. п.
Картина действительно предстает перед нами безнадежная. Ролан Барт [5] Барт, Ролан (Barthes, Roland) (1915–1980) — французский структуралист и семиотик. Последовательно проводя антибуржуазные идеи, Барт издает в 1957 г. серию очерков «Мифологии», где описываются основные «мифы» мелкобуржуазного сознания и их отражение в средствах массовой информации (Mythologies, 1957). В конце 1950-х гг. Барт приходит к выводу о необходимости семиотической интерпретации культурно-социальных явлений. Событием стала книга Барта «Система моды» (1967), написанная с семиотико-структурных позиций. Барт — автор идеи о необходимости семиотической интерпретации социокультурных процессов.
объявляет о «смерти автора». Мишель Фуко [6] Фуко, Мишель (Foucault, Michel) (1926–1984) — французский философ и историк культуры, книги которого о безумии, социальных науках, медицине, тюрьмах и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей в современной французской литературе. Его главный труд «Слова и вещи» (1966) — исследование гуманитарных наук и тех структур мышления, которые им предшествовали.
заявляет «Человек умер. Остались структуры» (во многом перефразируя изречение Фридриха Ницше более чем столетней давности: «Все боги умерли»). Знак (в том числе и языковой) в современном обществе перестает быть знаком, который выражает что-то конкретное, ощутимое и отчетливо-понятное, и становится симулякром, т. е. как бы псевдознаком, симулирующим информацию. Практически любое творчество (возможность которого в современном обществе заведомо отрицается) сводится к некой шизофренической или параноидальной деятельности. Человек, желающий заниматься языковым творчеством, обречен стать либо параноиком, либо шизофреником и соответственно заниматься либо «паранойанализом» либо «шизоанализом». «Умирает» в этой тотальной шизопаранойе не только человек, но и текст. Любой текст — это уже не текст, а гипертекст или интертекст, т. е. цитатник, текст текстов. Ничего оригинального уже не придумаешь. Все равно ты обречен быть вторичным. Любое языковое творчество — пустая идея, переливание из пустого в порожнее, ироничная перепевка, попурри из уже созданного ранее, коллаж в контексте секонд-хенда.
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)