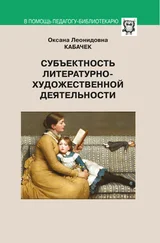К кому обращается и с кем идентифицируется автор в стихотворении?
Адресат очевиден: «Идеальная читательница и, как мы знаем, Муза Набокова здесь абсолютно одинока ( только ты ). Суждения остальной публики пусты, хотя и рабски зависят от „авторского мифа“, для которого важны и „спортивность“, и „эстетизм“, и „чисто игровое начало“. ‹…› За „шутовством и обманом“ всегда есть нечто , но добраться до него можно лишь за складыванием паззлов» [99]. Кроме Веры, «правильного» зеркала, [10] Не сама ли Вера Евсеевна, как предполагает Курицын вслед за З. Шаховской, всех оттолкнула от классика-Набокова? [74]. «Во многом надменный, недоступный, непостижимый „В.Н.“ был ее творением» [156;14], — пишет биограф Веры Набоковой С. Шифф.
и зеркала «кривого» — остальной публики, его оппонентов, есть и другие субъекты, с которыми идентифицируется автор: Арлекины (как символ его творчества, т. е. его «детища» — см. ниже) и собственная совесть, не дающая забыть, что черты, отмеченные публикой, имеют место быть и у него самого — его теневого Я.
Этот артистичный двойник — «сноб и атлет» вырисовывается в неосознаваемом автором и читателями, но влияющем на общее восприятие стихотворения фабульном слое затекстапроизведения. (Напомним, что это расшифрованные исследователем картины, встающие за полной фонограммой текста [61].)
Картина связана с ребенком лет четырех, горестно, ревниво и, в тоже время, со стыдом наблюдающем за огромным псом, похожим на дога: эта лоснящаяся, холеная, забалованная и наглая тварь, вырвавшись из комнаты, бежит вниз, на кухню, где, под грохот и звон посуды, шипенье и треск продуктов, готовится праздничный обед (пасхальный или рождественский); беспрепятственно ворует со стола куски мяса, заглатывает их, получая от кухарок игривые шлепки по крупу и порцию вкусной требухи; всё это под звуки праздничных церковных песнопений, доносящихся с улицы.
«Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок», — пишет о себе В. В. Набоков в «Других берегах». А бессознательное (совесть) говорит, что вовсе это не так прекрасно, а даже отвратительно, если посмотришь на себя со стороны. Вор как «хозяин жизни»; одновременно «животное» и «артист», а в переводе на человеческий персонаж — «циник, гигантский пошляк» [76], в борьбе с которым «Набоков и обличал пошлость» [76].
Это пример динамики внутреннего полилога , активизирующего различные пласты взаимодействия сознательного и бессознательного, реального и фантазийного [125;98]. Говоря об ином произведении Набокова, М. Маликова полагает, что «несмотря на наличие в референтном плане реального адресата ‹…›, традиционная функция этой фигуры модифицирует семантику адресации интериоризацией „ты“» [88;85] (сей пассаж В. Шубинский переводит следующим образом: «…хотя „ты“ в „Других берегах“ обращено к жене, в силу литературной традиции это обращение воспринимается как направленное на внутреннего собеседника» [160]). Интериоризация «ты», переведем теперь самого В. Шубинского, — это второе Я автора.
О нем и пойдет речь в архетипическомслое затекста. Он описывает другого героя в паре антиподов — совестливое, нежное, ранимое Я автора (чудаковатого мечтателя, которого Набоков так любил выводить главным героем произведений). А, еще точнее, этой слой произведения прямо говорит, что В. В. Набоков при написании стихотворения находился как автор в позиции этого «светлого» Я (II тип героя: рефлексивный, ответственный, совестливый). И значит, должен был испытывать весь комплекс чувств человека с обостренной совестью. (В жизни автор мучился неодолимым комплексом вины спасшегося, характерного для случайно выживших по отношению к несправедливо погибшим [150;99].)
Анаграмматическийслой затекста (взятый в прямой последовательности звуков, образующих новые слова), обращен уже к другим персонажам, процесс опознания которых впереди. Будем подбираться к ним постепенно, пошагово.
Сначала разберемся с загадочными Арлекинами. Выражение «арлекины в степи», считает И. Толстой, даны как пример абсурда, нелепицы, как образ существ не на своем месте [140]. Что-то вроде слонов в посудной лавке, только наоборот.
Но почему для этого понадобились именно они? Ответ кажется на первый взгляд очевидным: все творчество Набокова прошито и структурировано арлекинскими мотивами; он видит в арлекине неудержимый дух преображения и свободной игры [90]. (Причина этого — в писательской биографии Сирина: встреча с театром Н. Н. Евреинова, философия арлекинады помогла начинающему писателю найти свой стиль и метод, выйти из затянувшегося стартового кризиса [90].)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
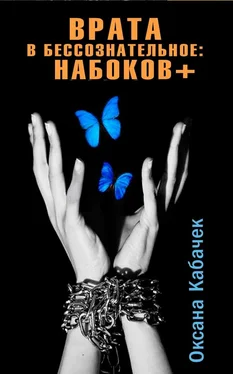
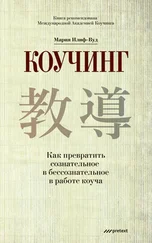
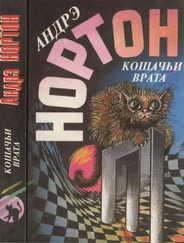





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)