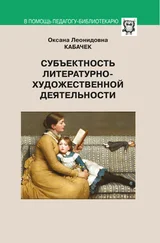Для чего подробность о «чужих атаманах»? Это символ агрессии по отношению к авторскому тексту со стороны невежд и пошляков — переводчиков и читателей, считает И. Толстой [140]. Но преуспевающий писатель В. В. Набоков был независим и сам часто переводил свои романы, следовательно, не ему так бояться переводчиков; а вот проблема неверной, поверхностной интерпретации его произведений (и его личности) читателями, тема одиночества и непонятости — реальна, и она отразилась в этом стихотворении (лежит на поверхности). Хотя Набоков, на первый взгляд, много сил отдал растолковыванию своего творчества: предисловиям, послесловиям, комментариям к своим романам — «вдруг мы, не дай Бог, что-нибудь не так поймем, узнаем, увидим» [150;168], иногда посредством этой работы он еще дальшеуводил читателя от себя глубинного, т. е., в сущности, строил психологическую защиту своего истинного Я, обостряя, тем самым, проблему непонятости и одиночества.
Может быть, для того, чтобы проблему соотношения и гармонизации «Я-внешнего и Я-внутреннего», наконец, разрешить, необходимо было справиться с личностной проблемой и/или глубинной травмой? Поищем еще какой-то смысл в словах и образах стихотворения. Примем при этом во внимание, что стилистику художественного мышления Набоков заимствовал у сна, — выявление внутренней структуры происходящего, в ущерб внешнему, действительному [161].
Почему в стихотворении «To Vera» переставлены времена: начало — во второй строфе (уже прошедшее время), а окончание — в строфе первой (будущее)? Что здесь означает свойственное ему стремление уйти от обычной хронологической и причинно-следственной связи явлений и «синхронизация» переживаемых событий [2]?
И еще: ведь писатель Сирин мог избрать и иные успешные способы выхода из творческого кризиса — освоить другие творческие приемы? Не потому ли он остановился на арлекинаде как парадигме писательского существования, что там была черная метка? Знак, отметивший его однородцев?
«и отпускаху их назад к Новугороду»
Московский летописный свод конца XV в.
Иван III славился хамоватыми издевками [20;351], а иногда превосходил сам себя, применяя азиатские, ордынские технологии. Оставшихся в живых новгородских ополченцев, разбитых под Шелонью, велено было не брать в плен, а отпустить к своим. Для устрашения: «Холмский и товарищ его, боярин Феодор Давидович, ‹…› положили на месте 500 неприятелей, рассеяли остальных и ‹…› приказав отрезать пленникам носы, губы, послали их искаженных в Новгород» [143]. Позднейшие беллетристы писали больше не о поврежденных носах, а о губах, подтверждая эффективность ордынской операции: сначала, издали, горожанам показалось, что идут улыбающиеся люди, потом они с ужасом разглядели обезображенные лица родных.
Вряд ли мы сможем узнать, была ли такая ромбическая метка запекшейся, почерневшей крови на лице ссыльных О-вых; но она стала знаком, вобравшим в себя обе части новгородского «аффективного комплекса»: поражение в битве и наказание изгнанием. Для оставшихся на родине черный ромбаккумулировал в себе боль, ужас, чувство сострадания к наказанным сородичам и своей неизбывной вины от «невстречи». И тот самый, уже упоминавшийся, неодолимый комплекс вины спасшегося [150;99].
Родовая травма объективировалась, опредметилась и начала свой долгий путь по «коллективному бессознательному» однородцев. Рассмотрим механизмы ее действия, опираясь на важные для Набокова символы (архетипы, мотивы), помня о том, что они взаимосвязаны, тесно переплетены друг с другом, часто «просвечивают» один через другой [135].
Проведем чистый эксперимент: предположим, что бессознательное работает независимо от сознания. То есть, оно может ничего не знать о пристрастии Набокова к арлекинаде; оно просто ищет из своей «базы данных» все предметы и природные явления с черным ромбом.
Подходящие исходные данные образуют три основные группы: 1) все бабочки с черными ромбами; 2) все витражи с такими же ромбами — т. е. «венецианские окна» (А. Блок); 3) все двойники с функцией артистов, в одежде которых могут присутствовать черные ромбы: скоморохи, клоуны, паяцы, полишинели, мимы, шуты, арлекины, фигляры, джокеры и пр.
Итак, только во 2 группе, помимо заявленных в тексте стихотворения «геометрии» и «черного» имеется намек и на «Венецию». Сугубо логическая, «машинная» работа бессознательного проходит в порядке, обозначенном в Таблице № 23: от венецианских окон-витражей — через арлекинов (артистов итальянского театра дель-арте) — к бабочкам- арлекинам (например, вид крыжовничная пяденица, Abraxas grossulariata). Почему пяденица? Не только потому, что Владимир Набоков с детских лет ее многажды видел: она семейства Geometridae (подсказывает стихотворению слово «геометрия»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
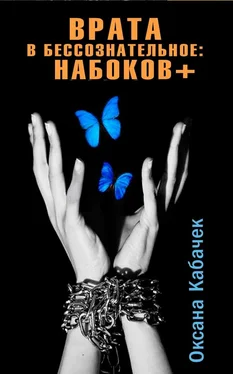
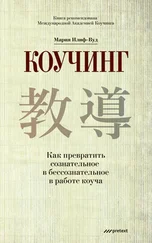
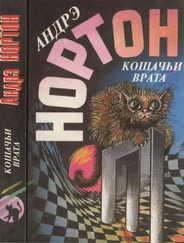





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)