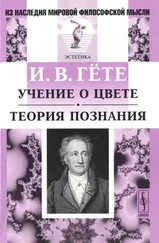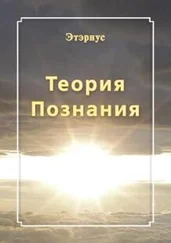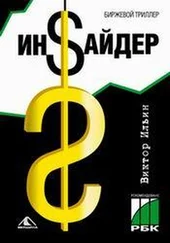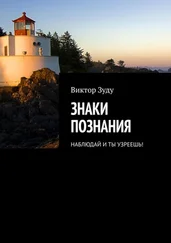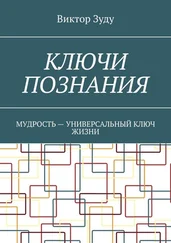Космоцентризм. В кильватере критики онтологического доказательства: бытие не следует из идеи бытия – задним числом посредством рационализации «выбора», лишаемого признаков преднамеренности, предопределенности, без обращения к органической преформации развертывается версификация «порядок из хаоса». Смысловое ядро платформы определяется уяснением повода к ней, – а именно: неприятием фаталистического провиденциализма. Если, по Лейбницу (апеллировавшему к закону основания), «уже сейчас истинно, что события, которые произойдут в будущем, произойдут именно так, а не иначе, то можно ли считать их «случайными», то есть такими, которые могли бы случиться и иначе? Ведь если события действительно произойдут именно так, то в любое время истинно утверждение, что они произойдут именно так. Но если всегда истинно, что они произойдут именно так, то как же они смогут произойти иначе?» 43.
Поистине нелегкая проблема (навеянная поводом: «от явления к предопределению явления») снимается трактовкой «необходимости» событий в залоге «post factum». Разумеется, следующее: в модусе непосредственного дления самоактуализаии – in statu nascendi – события не необходимы (не «целесообразны»); события складываются как самоутверждения в обработке возможностей (скажем, в прохождении через точки бифуркации), где они могут сложиться, но могут и не сложиться. Это «могут» обусловливается не предопределением, а материальными потенциями ситуаций. Выход рефлексии за пределы последних с нарастанием недоверия к залогу in spe, с привлечением полагания на божественную волю, собственно, питает телеологизм, который, что и парализующий фатализм, есть превращенный сценарий активного влияния настоящего на прошлое с опусканием опосредствований.
Теоцентризм грешит понятийной невнятностью, подрывом научной рациональности: допущение провидения per hiatum irrationalem означает в подспудье скрещивание разума с фетишистским моментом удовлетворения исповедальным, что, конечно, превосходя пределы, границы науки, выводит рассуждение на простор вненаучного – подавленного, смятенного сознания.
Антропоцентризм гипертрофирует, но никак не концептуализирует факт космической монопольности человека. Содержательная расплывчатость, удрученность проводящего взгляд ума разоблачается неспособностью прояснения причин нашего действительного (в некотором смысле – наилучшего, – осиянного явлением сапиента) мира – одного из возможных миров.
Космоцентризм: святое отношение к парадигме рациональности впечатляюще наращивает высоту идейных волн, эвристического напора которых, однако, пока не хватает для приведения в движение фундаментальной теории, располагающей исчерпывающей картиной глобальной эволюции универсума.
У Лейбница возможность творить несуществующее тематизируется трактовкой возможного как непротиворечивого: «наше… учение основывается на природе возможностей, то есть на природе вещей, не заключающих в себе противоречия» 44. С позиций рациональных фундаций платформы – приемлемо; для экспликации реальных морфогенетических процессов – недостаточно. Обрамление логического скелета предметной плотью потрясает скатыванием в алогичную телеологическую убогость: «бог избирает наилучший из всех возможных миров» 45; бог «создает наилучшее» 46; «пути божии наиболее просты и целесообразны» 47.
Телеологический креационизм, что очевидно, скверно играет свою роль объяснительного начала. Лучший антидот провидению – понимание несостоятельности линии, гиперболизирующей «не быть – значит быть ничем». Дело заключается в замене провидения естественноисторическим созиданием, возвышающим момент, полный конструктивных возможностей.
Отказываясь от поиска таблично устанавливаемых истин, утрируем проблему существования действительного мира – одного лишь из возможных миров. Мощная историко-философская традиция от Августина до Лейбница в ее версификации делает ставку на подрывающую каноны рациональности телеологию. Между тем напрашивается использовать менее ущербный ход, намеченный еще аристотелевским гилеморфизмом. Очищенный от спекулятивных техно- и биоморфных проекций, он поставляет ценное понятие потенции (становления) как имманентного принципа вещи: «существующее актуально всегда возникает из существующего потенциально». Философская стратегия «актуализации» находит вполне предметную детализацию в модели созидания предметно совершенного, достигаемого «не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять» (Сент-Экзюпери).
Читать дальше