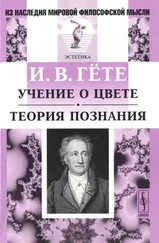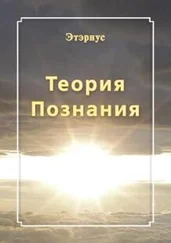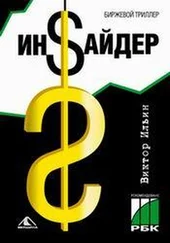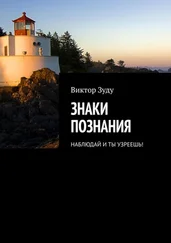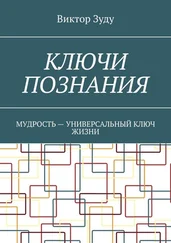Перспективный мотив «реализация провидения посредством условий» вывел мысль из теснин кататонии: убогий креационизм заменился понятием «созидание через внутреннюю историю». (Плодотворность такого шага не замедлила придать импульс прогрессу методологии обществознания, стимулируя выработку профетических, но все-таки перспективных решений типа циклизма Вико; панлогизма Гегеля – мегасоциологистская вера в торжество провидения в настоящем – апологетический «некритический позитивизм»; революционного футуризма Маркса – мегасоциологисткая вера в торжество провидения в будущем – вопреки «мраку рока и бессмысленности существования» 54).
Платоновская pronoia закрывается тенью, затмевается верой в направляющую созидательность, фикс-пункт которой – целесообразная жизнь с ее величием и опасностями.
Итак, рациональная проработка рассматриваемого расширительно и оптом вопроса: заложена ли причина артефактов в природе их материи? – на протяжении длительного времени получавшая ответ: нет, она располагается в идеях их создателя, – в версификации капитальной темы «целесообразное» подготовила весьма интригующий шанс замены креационистской сверхъестественной силы силой естественной формирующей.
Предварительная содержательная ориентировка в ходе осмысления феноменов: цель, целенаправленность, целеполагание, целесообразность – заключалась в преодолении тесноты и безысходности телеологии через внедрение в эксплананс комплекса: «самоопределение в узаконении творческих устремлений».
Цветы новых идей вырастают из семян критики предрассудков прошлого. Впадать в телеологические крайности пера после уяснения того, что телеология как умопредставительная позиция в вопросах природознания – явление неоригинальное и малопримечательное, – более не пристало. Пристало оценивать эвристические ресурсы телеологии применительно к вопросам человекознания, в кругу которых телеологические понятия в качестве пророчеств «истин возвышенных» получают известное распространение.
В философии нельзя начинать с дефиниций. Философия не математика. Четкие, жесткие формулировки здесь должны не предварять, а венчать поиск. В философии дефиниция – результат, взятый наряду с ведущей к нему тенденцией. Тем не менее вообще без дефиниций – нестрогих, но исходных установлений, по крайней мере вводящих в курс дела, семантически оконтуривающих, означивающих предметные сферы, в философии не обойтись. Памятуя об этом и не стремясь к систематичности, выскажем следующее.
Наиболее кратким, емким из близлежащих определений антропосферы как компактной в себе организованной реальности будет «позитивная естественность существования во всем своем богатстве, внутренней связности, дифференцированности».
Взятая в ракурсе «онтология», антропосфера предстает как разветвленный корпус феноменов «экзистенциальной синкретичности», специфицируемой на «бытие с», «бытие к», «бытие при». Взятая в ракурсе «гносеология», антропосфера предстает как в высшей степени оригинальный симбиоз законсервированной архаики и активно влияющего модерна.
Для содержательного развития этих предварительных, по необходимости худосочных утверждений, приступая к теоретическому развертыванию антропологического проекта, оттолкнемся от структурного разреза предмета. В пределах привычных философских диспозиций онтология сосредоточена на анализе оппозиции «одушевленное – неодушевленное»; гносеология поглощена изучением «субъект-объектной» оппозиции; антропология замкнута на отслеживании перипетий «субъект-субъектной» оппозиции во всех регистрах субъективности «Я – Я», «Я – ТЫ», «Я – МЫ», «Я – ОНИ».
Регистры субъективности. Тематическая сфера антропологии – не отрешенные категориальные конструкции личности, а реально чувственный, мыслящий, водящий, общающийся человек во всех модусах конкретного самостоятельного самоустроения. Антропология анализирует человеческие жизненные явления в их позитивной целостности, полноте. В антропологии нет ни соматического, ни социального, ни культурного; имеется нечто единое, вместе взятое в форме гуманитарного деятеля 55, который, не удовлетворяясь миром, изменяет его и себя в нем.
Основные идеи антропологии вращаются не вокруг затасканной «деятельности», а вокруг куда более богатых объемных содержательных пластов, передаваемых понятийными образами «жизненная драма», «биография», «процесс поступков», дальновидно вводимых в наукооборот Грамши, Политцером, Сэвом.
Читать дальше