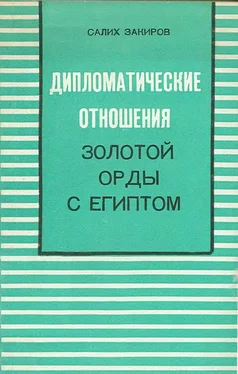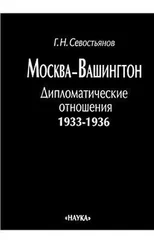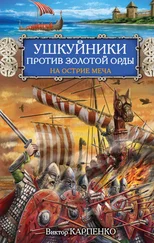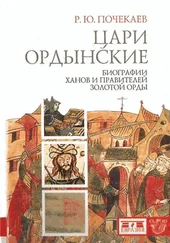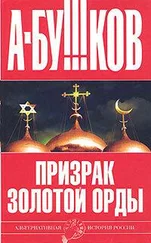Однако северная столица Хулагуидов — Тавриз была еще раз взята в 1385 г. при золотоордынском хане Тохтамыше. Только вмешательство Тимура и постоянная борьба с ним не дали Тохтамышу возможности удержать Азербайджан.
После сокрушительных ударов, нанесенных Тимуром, потрясенное до самых основ золотоордынское государство уже не в состоянии было вести агрессивную политику и добиваться каких-либо завоеваний.
* * *
История внешней политики государств Среднего и Ближнего Востока, рассмотренная в связи с взаимоотношениями Золотой Орды и хулагуидского Ирана, показывает, что именно конфликт между Джучидами и Хулагуидами и обусловил в значительной мере союз Золотой Орды с Египтом. Однако и притязания Хулагуидов на Сирию в свою очередь явились немаловажным фактором в поддерживании Египтом дружбы с Золотой Ордой Причем из всех трех государств Египет оказался в самом выгодном положении. Он в ту пору был наиболее экономически сильным государством, а после покорения Сирии (1261 г.) и захвата Палестины (1291 г.) стал важным транзитным центром торговли Запада и Востока. Можно утверждать, что мамлюкские султаны умелой дипломатией добились своего. Разжигая вражду между двумя монгольскими династиями, которые вместе явились бы грозным противником Египта, султаны пользовались выгодами складывавшейся обстановки. Таким путем Египту удалось сохранить за собой Сирию, на которую постоянно посягали Хулагуиды, тогда как последние, вынужденные на протяжении всего существования их огромного государства отстаивать все свои границы от вторжения Золотой Орды, Чагатаидов в Хорасане и др., уже не имели достаточной военной силы, чтобы вести борьбу на нескольких фронтах. В свою очередь и Золотая Орда также не сумела добиться присоединения к своим землям Азербайджана, овладев им в такой исторический момент, когда обстоятельства уже не позволили ей воспользоваться результатами своих завоеваний.
Глава I
Дипломатические отношения Золотой орды с Египтом
В жизни народов Азии и Европы XIII век ознаменовался чрезвычайно важными событиями и грандиозными потрясениями, на многие десятилетия определившими их дальнейшее развитие. В Европе создавались крупные феодальные монархии, положившие конец существованию множества мелких княжеств. Осененное папскими хоругвями «святое воинство» продолжало крестовые походы на Восток. А в Азии в это время возникла великая империя кочевников, под стремительными ударами которой были превращены в развалины и залиты кровью многие государства Азии и Восточной Европы.
В XIII в. Египет, Сирия, Византия, Киликийская (или Малая) Армения, империя Сельджукидов, Трапезунт и другие более мелкие державы оказались в центре мировой политики той эпохи. Объяснялось это тем, что с Востока шли монгольские завоеватели, а с Запада — крестоносцы, причем интересы обоих движений перекрещивались в этих землях.
Возникновение в Иране монгольского государства Хулагуидов и продвижение монголов в сторону Сирии, Палестины и Египта захват ими Месопотамии поставили… Сирию, Палестину, а затем и Египет под угрозу завоевания. Крестоносцы, убедившись неоднократно, что они не в состоянии закрепиться на захваченных ими землях, пока существует относительно централизованное, экономически развитое и обладающее сильной армией государство мамлюков в Египте, стремились найти себе союзников в лице монголов. Руками этих вселявших ужас завоевателей они надеялись сделать то, что никак не удавалось им самим: сокрушить Египет.
Еще в 1245 г. папа Иннокентий IV (1243–1254), который, впрочем, и ранее не раз пытался заключить с монголами союз, направил в Золотую Орду к хану Батыю францисканского монаха Джованни дель Плано Карпини. На Западе в то время ходили упорные и явно преувеличенные слухи о христианстве монгольских ханов [55] Кое-какие основания для этого были, так как, например, мать Хулагу и его главная жена были христианками.
. Толковали, тоже не без преувеличений, об их ни с чем не сравнимых победах над мусульманами, желая видеть в этих победах предвещание скорого заката полумесяца. Но вместе с тем в Европе очень опасались нашествия монголов. Поэтому-то именно в 40-х годах XIII в. было отправлено несколько посольств с Запада в Золотую Орду и к Великим ханам, чтобы выяснить возможность распространения среди них христианства, что было, однако, лишь благовидным предлогом. Истинные же цели посольств были много более прозаическими и земными: в частности, они должны были разведать возможность использования монголов в борьбе против Египта [56] Об усилиях папской курии привлечь монголов в лоно римско-католической церкви, с тем чтобы затем раздавить империю мамлюков, говорит А. Атийа (Atiya, The Crusade, ch. X, pp. 233–269).
. В данном случае религиозные и политические интересы были тесно связаны. В 1247 г. тот же Иннокентий IV направил вторую миссию, на этот раз к хану Бачу (Бачунойон — преемник Чармагана) [57] Бачу (или Байджу) — наместник монгольского хана Угедея на Кавказе, куда он прибыл в январе — феврале 1241 г. и правил там вплоть до вступления на престол Хулагу. Spuler, Die Mongolen in Iran, S. 37 и в др. местах.
во главе с доминиканцем Ансельмом Асцелином [58] См. «Путешествие Асцелина…».
. Людовик IX Святой (1236–1270), канонизированный папой Бонифацием VIII в 1297 г., подготавливая на о. Кипре седьмой крестовый поход, в декабре 1248 г. принял посла монгольского полководца Ильчикдая, который заверил французского короля в том, что Великий хан принял христианство и исполнен желания оказать всяческую поддержку христианам. А в январе (феврале) 1249 г., за полгода до захвата Дамиетты, Людовик IX направил к монголам доминиканского монаха Андре Люнжюмо (Лонжумел) [59] Andre de Longumedu, или de Lonjumel, или Longjumeau. О нем см.: Pelliot, Mongols et Papaute — третий и последний выпуск его исследования (1932 г.), где дано детальное описание жизни и деятельности Андре Лонжюмо, а также Atiya, The Crusade, pp. 88–89, 239, 241–243.
. Так же как и папа Иннокентий IV, французский король, прикрываясь елейными фразами об обращении монголов в христианство, на деле всеми силами старался натравить их на Египет. Когда же до него дошли сведения, что монгольские отряды начали совершать набеги на Месопотамию и северо-восток Сирии, Людовик IX сразу же увидел в монголах возможного и сильного союзника и в 1253 г. послал к Менгу-хану монаха Вильгельма (Гильом) де Рубрука, снабдив его письмом папы Иннокентия IV к хану Сартаку, который еще при жизни отца — хана Батыя принял христианство [60] Вопрос о принятии Сартаком христианства подробно разработан у Б. Щпулера (Spuler, Die Goldene Horde, S. 211–212), он говорит также и о дружелюбном отношении к христианству Великого хана Гуюка (1246–1248) — см. там же.
. Однако Рубрук «действовал нерешительно и с большой опаской» [61] Микаелян, История, стр. 344.
, так как не имел полномочий заключить военный союз с монголами против Египта. Таким образом, и миссия Рубрука была всего лишь политической разведкой.
Читать дальше