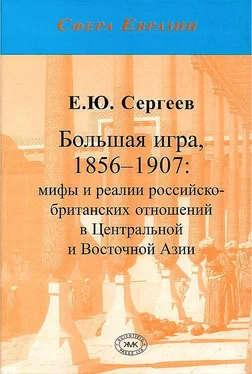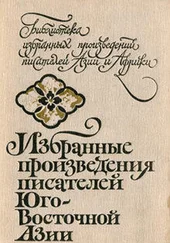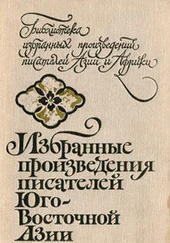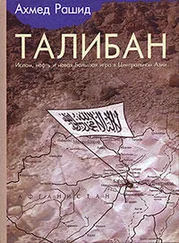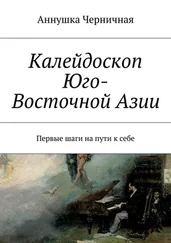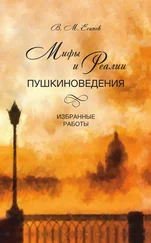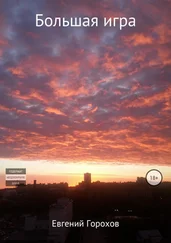Комментируя неуклонное движение России через обширные степи, песчаные пустыни и высокие горные хребты к наиболее значимым морским коммуникациям, влиятельная американская газета Нью-Йорк Таймс писала 29 января 1879 г.: «Поскольку великими магистральными путями западной коммерции являются Средиземное море, Атлантический и Индийский океаны, и в силу того, что она (Россия. — Е.С .) обладает крайне неподходящими средствами, чтобы достичь их, крупнейшей проблемой российской государственности продолжает оставаться, как это и было в течение последних двухсот лет, вопрос о том, каким образом обеспечить южную морскую границу» [96].
Интересы России в понимании ее властной элиты определялись необходимостью контроля над ключевыми опорными пунктами морского побережья, такими как Мурманск и Архангельск в северных водах, Константинополь в Черноморских проливах, Либава и Рига на Балтике, Владивосток и Порт-Артур на Тихом океане [97]. Таким образом, геостратегический потенциал континентальной империи усиливался за счет обретения ею морской мощи, гарантировавшей в то же время более надежную защиту границ. Характерно, что Альфред Мэхен, один из основоположников концепции «силы на морях», сравнивал продвижение России к берегам Персидского залива с аналогичными действиями Англии в Египте: «Россия находится в неблагоприятной позиции для аккумулирования национального богатства, иначе говоря, она испытывает нехватку средств для повышения благосостояния своего населения, принимая во внимание его первоочередную значимость. Для такого положения естественно и адекватно высказывать неудовлетворение, которое в свою очередь легко принимает форму агрессии — понятия, часто используемого теми из нас, кому не нравится любое поступательное движение нации» [98].
Хороню известно, что устремления России в Центральной и Восточной Азии требовали значительных бюджетных ассигнований, в частности, на обустройство военных поселений и пограничных опорных пунктов, которые составляли защитные линии, а также на осуществление мер по колонизации обширных территорий с редким населением. Именно в этой связи для правительства важно было определить естественные границы, которые нередко отделяли друг от друга области компактного проживания автохтонных этнических общностей, различавшихся языком, религиозными верованиями и культурными традициями. Требовалось наладить контакты с земледельческим населением, умиротворить воинственные кочевые племена, а также обеспечить безопасность караванных дорог, пересекавших весь Евразийский континент [99].
Со своей стороны, Британия была озабочена строительством «второй империи», после того как она потеряла свои американские колонии, кроме Канады. В противоположность доктрине меркантилизма, определявшей политику Англии в период Стюартов и первых Ганноверов, «вторая империя» создавалась на принципах рыночной экономики, которые нашли отражение в классических трудах А. Смита, Д. Риккардо и Дж. С. Милля. Если в XVII–XVIII вв. «первая империя» привлекала главным образом плантаторов и перекупщиков сырья, которые курсировали между Лондоном и Нью-Йорком, чтобы обогатиться за счет эксплуатации колоний Нового Света, предприниматели «второй волны» стремились вкладывать средства в формирование азиатских рынков для продукции британских фабрик, обеспечивая их одновременно новыми источниками сырья [100].
Тем не менее к середине XIX столетия выходцы из аристократических фамилий по-прежнему занимали ключевые позиции в Российской и Британской империях, принимая внешнеполитические решения нередко в ущерб экономическим интересам промышленников и социальным нуждам наемных работников. Как справедливо писал историк, «британская элита, которая рекрутировалась из аристократии на протяжении длительного периода времени и которая преимущественно получала классическое образование в Оксфорде или Кембридже ( an Oxbridge education ), как правило, пренебрежительно относилась к бизнесу» [101]. Однако к концу Нового времени холодный прагматизм и трезвый расчет государственных деятелей, торговцев и предпринимателей — проводников политической и экономической экспансии Британии в странах Азии и Африки — стали постепенно брать верх над горячим стремлением молодых аристократов отправиться навстречу опасностям в экзотические регионы планеты. Следует отметить, что одной их типичных особенностей как русской, так и британской колониальных администраций на протяжении XIX в. выступала сравнительно широкая автономия на местах военных и гражданских чиновников, назначенных туда правительствами метрополий. Нелишенные карьерных амбиций, они сочетали в себе стремление к пунктуальному выполнению служебных обязанностей «на задворках империй» с непоколебимой верой в то, что их призвание — борьба за интересы империи на Востоке. Энергичная деятельность таких лиц находила отражение не только в репортажах журналистов, но красочно описывалась в многочисленных романах и воспевалась авторами поэтических произведений [102].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу