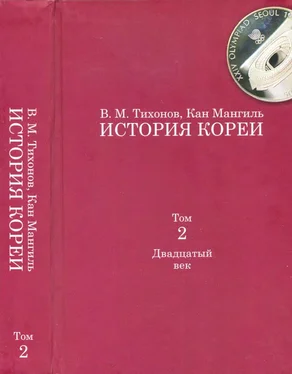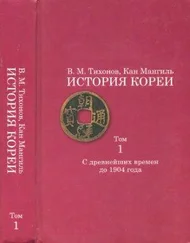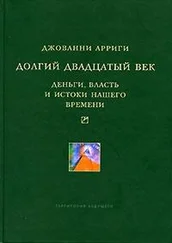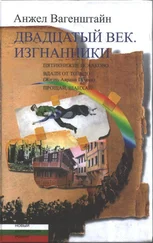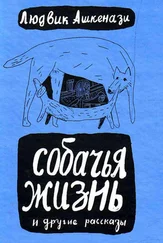Рис. 10. Памятное фото — после подписания Договора о протекторате ( Ыльса чояк ). Сеул, 18 ноября 1905 г. В центре — Ито Хиробуми.
Кабальный договор был встречен в штыки общественным мнением Кореи. Самоубийством выразил свой протест против японского произвола ряд видных политиков, в том числе близкий к американской мисс-сии видный дипломат Мин Ёнхван, чьи надежды на вмешательство США потерпели после 18 ноября полное крушение. Интересно, что, хотя при жизни Мин Ёнхван, соучаствовавший в проводимой Коджоном торговле чинами и должностями, был фигурой весьма малопопулярной, самоубийство сделало его героем в образованной среде: столь сильна была антипатия по отношению к японцам и их корейским лакеям. Пятеро министров, подписавших договор о протекторате, получили прозвище «пяти предателей» и стали мишенями для всеобщего гнева и презрения. Показательно, что, несмотря на сопровождавшие их повсюду японские полицейские эскорты, трое из них подверглись покушениям, причем один из них, чье имя стало синонимом предательства, — прояпонский политикан Ли Ванъён (ранее заигрывавший с российской и американской дипломатией) — всю жизнь не мог оправиться от ножевой раны, нанесенной ему в 1909 г. протестантом-националистом Ли Джэмёном (1890–1910).

Рис. 11. Ли Ванъён — глава прояпонской группировки, самая одиозная фигура корейской истории начала XX век. Сыграл большую роль в отречении Коджона от престола 21 июля 1907 г. Его подпись стоит на Договорах о протекторате (1905) и об аннексии Кореи (1910). За эти «заслуги» перед японцами был награжден титулом графа и суммой в 150 тыс. иен.
Месть «пяти предателям» и их пособникам стала целью для целого ряда тайных групп вставших на националистические позиции конфуцианских интеллигентов. Лидером одной из таких групп был, например, известный конфуцианский ученый из провинции Чолла, На Чхоль (1863–1916), создавший позже (в 1908 г.) основанную на поклонении «предку нации» Тангуну религию тэджонгё .
Однако всеобщее возмущение произволом японцев и предательством чиновной верхушки не являлось особым препятствием в осуществлении японских колониальных амбиций, за которыми стояла прежде всего вооруженная сила. Ито Хиробуми, вступивший с марта 1906 г. в обязанности японского генерального резидента (кор. тхонгам , яп. токаи ) в Корее, и подчиненные ему 12 провинциальных резидентов очень скоро сосредоточили в своих руках административную власть через разветвленный аппарат японских «советников» и «помощников», — назначавшихся теперь в каждое министерство и ведомство и к каждому из 13 провинциальных губернаторов. На самом верху административной системы Коджон лишился права публиковать указы и распоряжения без согласия министров кабинета, подбиравшихся из числа про-японских бюрократов и решавших основные вопросы жизни страны на еженедельных заседаниях «Комитета по административным реформам» в резиденции Ито Хиробуми. Внизу же командовавшие расквартированными в провинциях японскими военными частями офицеры, японские резиденты, а также японские полицейские и юридические советники при провинциальных губернаторах оставили корейской бюрократии чисто технические функции. Несколько десятков японских военных и полицейских офицеров, дислоцированные в каждом из 333 уездов страны, стали реальной властью на местах. Из компетенции корейских провинциальных чиновников — губернаторов и начальников уездов — был исключен сбор налогов, которым занимались теперь подчиненные японской администрации налоговые управления (36 главных и сборщики налогов в каждой волости- мён в их подчинении).
Однако, как замечал в своих мемуарах ( «Мэчхон ярок» — «Неофициальные записи Мэчхона») известный конфуцианский патриот и талантливый поэт Хван Хён (литературный псевдоним — Мэчхон; 1855–1910), «даже при том, что японские солдаты и полицейские зачастую позволяли себе издеваться над корейскими начальниками уездов, пинать и оскорблять их, почти никто из уездных начальников не покинул своих должностей». Средние и крупные землевладельцы — а именно из этой прослойки в основном рекрутировалось высшее и среднее провинциальное чиновничество — зачастую охотно шли на сотрудничество с колонизаторами, ибо японская власть показывала себя гораздо более эффективной, чем двор Коджона, в деле подавления угрожавших собственникам народных протестов. Кроме того, новые японские порядки позволяли землевладельцам-ростовщикам безнаказанно и эффективно отбирать заложенные крестьянами земли, регистрировать общинные земельные участки как свою личную собственность. Современное сознание зачастую принимало у этой компрадорской прослойки колониально-периферийную форму, где на месте «нормального» буржуазного национализма оказывалось холуйское поклонение перед «передовой японской культурой».
Читать дальше