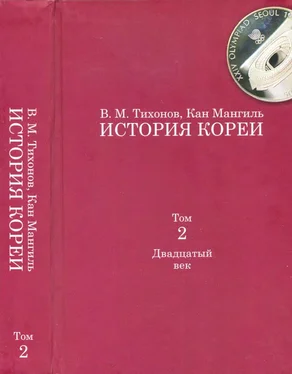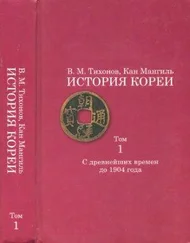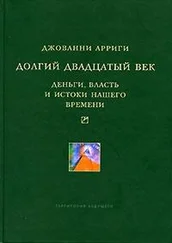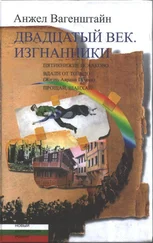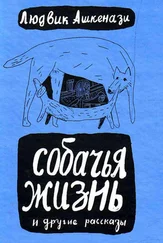Рис. 14. Церемония роспуска старой корейской армии 1 августа 1907 г.
Хотя режим Коджона до самого своего конца так и не решился использовать армию для защиты независимости страны, само существование корейских вооруженных сил, а также антияпонские настроения среди солдат и части офицерства, проявившиеся, в частности, в вооруженных столкновениях между корейскими военными и японской полицией 19 июля 1907 г. на улицах Сеула, были потенциальной угрозой японским планам. Поэтому одним из первых актов японцев после отречения Коджона от престола было опубликование от имени Сунджона указа о роспуске корейской армии (31 июля 1907 г.). Попытки солдат столичного и нескольких провинциальных гарнизонов оказать сопротивление японскому произволу не имели особого успеха — большая часть амуниции и оружия уже была в японских руках. В конце концов, финальная «реорганизация» корейской армии в конце 1907 г. оставила Сунджону в качестве личной охраны всего 644 пехотинца и 92 кавалериста, но и те находились под японским командованием.
Насильственный роспуск армии, вкупе с отречением Коджона и назначением японцев на основные посты в ключевых министерствах и ведомствах, вызвало взрывы народного возмущения и в столице, и в провинциях. Дома некоторых министров-предателей, в том числе Ли Ванъёна, были сожжены разгневанными толпами, а они сами с их семьями — вынуждены искать убежища в хорошо охраняемом японском квартале столице (современный квартал Мёндон). Действия антияпонских «армий справедливости» в провинциях привели почти к полному параличу местной администрации. Ответом на активизацию народного сопротивления было ужесточение репрессий, формирование на корейской земле казарменного военно-колониального режима, опиравшегося на грубую силу, а также на своекорыстную поддержку части средних и крупных землевладельцев и привлекаемых на японскую службу деклассированных элементов. В Корею были дополнительно присланы японские подкрепления численностью около 7500 человек, всю территорию страны покрыли опорными пунктами японской военной жандармерии — кэмпэй (их было 457), а в дополнение к 2369 японским военным жандармам набрали еще 4065 корейских помощников, в основном из числа деклассированных элементов, готовых участвовать в расправах над соотечественниками. Под предлогом «модернизации» юридическая система Кореи была полностью изъята из ведения провинциальной корейской администрации и объявлена «независимой». В реальности это означало, что назначаемые теперь прокурорами и судьями в Корею японские юристы могли больше не оглядываться на корейскую администрацию, вынося жестокие приговоры участникам антияпонского сопротивления. В октябре — ноябре 1909 г. контроль над тюремной системой и судопроизводством был полностью передан японской администрации. Распоряжением от 3 октября 1908 г. полиция получила право наказывать мелких правонарушителей штрафами и тюремным заключением вообще безо всякого суда, в административном порядке. При этом к корейцам — «согласно корейской традиции и практике» — разрешалось применять телесные наказания, к японцам не применявшиеся. «Модернизированные» японские законы запрещали пытки и бессудные расстрелы, но на практике и то, и другое могло быть применено к любому корейцу, подозреваемому в связях с сопротивлением.
Введение в Корее казарменного колониального режима сыграло значительную роль в процессе роста японского капитализма, ибо давало Японии привилегированный рынок для ее товаров, снабжало ее растущее городское население дешевым рисом, а также предоставляло «лишнему» населению Японии возможность «попробовать счастье» на Корейском полуострове в качестве колонистов. Вытесняя и разоряя корейских производителей, японский текстиль захватил к 1910 г. уже около 60 % корейского рынка. В обмен Корея поставляла рис, бобовые и хлопковое сырье для японских фабрик, но нестабильность цен на продовольственные и сырьевые товары приводила к тому, что отрицательный баланс корейской внешней торговли составлял к концу 1910-х годов ежегодно 20–30 %. Средства корейских потребителей перекачивались в растущую индустриальную экономику Японии. Количество японских поселенцев в Корее выросло с 25 тыс. в 1903 г. до 145 тыс. в 1909 г., и общий капитал их коммерческих предприятий составлял приблизительно 10 млн. иен. Многие из них делали себе состояния скупкой крестьянских земель и эксплуатацией труда корейских арендаторов, а также ростовщичеством, часто практикуя худшие формы насилия, произвола и обмана в отношении корейского населения. Для покрытия расходов на содержание войск и администрации в Корее японцы провели в 1906 г. тщательную всеобщую перепись населения, приступили с 1907 г. к составлению нового земельного кадастра, а также ввели новые акцизные сборы на важнейшие потребительские товары — соль, алкоголь, табак. Собранные с обездоленных крестьян налоги тратились также на строительство, в добавление к уже существовавшим железнодорожным линиям Сеул — Пусан и Сеул — Ыйджу, шоссейных дорог, связывавших торговые центры внутри страны (Тэгу, Кванджу, Чонджу) с портами (Ёниль, Кунсан, Мокпхо). Эти работы, проводившиеся под вывеской «модернизации и прогресса», на деле обеспечивали японской армии лучшие возможности контролировать внутренние районы страны, а также облегчали сбыт японских товаров в корейской провинции.
Читать дальше