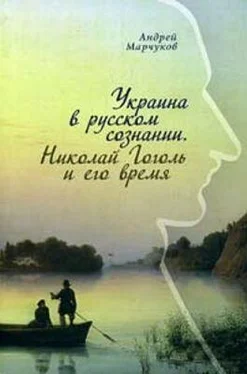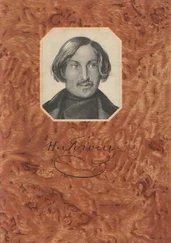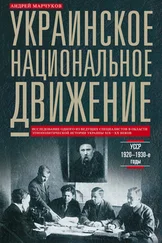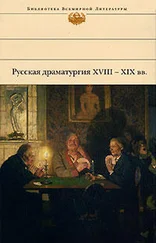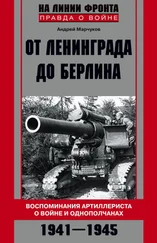Деятели этого направления (сначала украинофильского, а потом и украинского) начнут абсолютизировать «народ» как единственного представителя украинского этноса, создавая Украине такой простонародно-ярмарочный образ, наполненный (по Белинскому) сплошь «Одарками» и «Прокипами». Другие-то сословия, по их логике, «русифицировались» и «утеряли» связь с народом. То, что русская культура — это их родная культура, либо не принималось в расчёт, либо с порога отметалось. Но главное, что, отталкиваясь от русской культуры и русско-малорусской идентичности ради создания собственных украинских, деятели украинского движения стали всячески выпячивать этничность, именно в ней видя не только исходный материал для национального строительства, но и отличие украинцев от русских вообще.
Результаты такого подхода, для вдумчивых наблюдателей ставшие вполне очевидными ещё в середине — второй половине Х1Х века, в полной мере начали сказываться уже в новую социально-политическую эпоху, совпавшую с наступлением века ХХ. Усилия адептов украинофильства-украинства нередко доходили до абсурда, придавая украинству как национально-культурному и политическому течению гротескный «гопаковско-шароваристый» вид, который приводил в ярость даже некоторых украинских националистов, мечтавших о создании Украины, но Украины — не этнографического заповедника, а современной нации. И, отвергая этот навязчивый, пусть и довольно примитивный, но всё же мирный и безобидный образ, эти люди примутся воспевать «железную волю», «холодную ярость» и героику секиры и немецкого автомата. Однако, создав новый образ украинского национализма, в образ «Украины» они ничего нового привнести не смогут: всё уже было сделано и усвоено до них.
В 1926 году В. В. Маяковский написал стихотворение с весьма соответствовавшим духу тех послереволюционных лет названием «Долг Украине». В этом стихотворении поэт спрашивал современников: «А что мы знаем о лице Украины?» — и приходил к выводу, что сограждане знают об Украине очень мало:
Знаний груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —
Бульбы
и известного Шевченка, —
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
Ну а из современного могут припомнить лишь «пару курьёзов — анекдотов украинской мовы» [264].
В те годы многие, пережившие апокалипсис революции и гражданской войны, испытывали по отношению к Малороссии (как, впрочем, и ко всей «старой» России) примерно те же чувства, что в своё время поляки по отношению к утраченным по разделам восточным землям, — чувство «потерянного рая». В литературе это ярче всего заметно у М. А. Булгакова и И. А. Бунина. Гибнет Киев — Вечный Город, а с ним и привычный добрый мир Турбиных, который не могут спасти даже «кремовые шторы» на окнах их дома. Исчезает светлая, солнечная бунинская Малороссия, а на её место приходят «красная» Россия и Украина. И если Булгаков ещё надеется на воскрешение, пусть и частичное, былого, то Бунин — уже нет.
Владимир Маяковский не испытывал подобных переживаний. Он воспевал «Украину» — и именно её. Украину новую, коммунистическую, индустриальную, и хотел обратить взор читателя к социалистическому строительству, меняющему то самое «лицо Украины» («Днепр заставят на турбины течь»). И чтобы новое выглядело ещё мощнее и грандиознее, в качестве фона вывел тот самый обывательский «груз знаний». Если же отбросить пафос строительства нового мира, а также украинизаторский раж поэта, требующего разучить украинскую «мову на знаменах — лексиконах алых» и грозящего: «товарищ москаль, на Украину шуток не скаль» [265], то за всем этим действительно можно различить черты некоего коллективного образа Украины, который складывался ещё в ХIХ веке.
Понятно, что он во многом утрирован. Как и то, что стихотворение прекрасно вписывается в общий контекст советской национальной политики, раздающей «долги» всем «ранее угнетённым», как тогда официально объявлялось, народам (и украинскому в том числе) за счёт «ранее угнетавшей» их России и народа русского. Партийными установками объясняется и отношение большевика Маяковского (член партии с 1908 г.) к национальному вопросу и политике украинизации. Скажем, его современник, беспартийный писатель с «белогвардейским уклоном» и к тому же киевлянин, Михаил Булгаков об украинизации, «мове» и «Украине» вообще придерживался другого мнения. Но перечить «генеральной линии» было невозможно даже на страницах литературных произведений. Булгаков мог лишь обозначить мнение тех очень многих, кто не считал «разучивание украинской мовы» приобщением к мировому прогрессу и не видел прямой зависимости между строительством Днепрогэс и украинизацией: в очерке «Киев-город» (1923 г.) — очень осторожно, а в романе «Мастер и Маргарита» (1929 г.) — и вовсе намёками. Но, несмотря на все идеологические издержки, в том образе Украины, что набросал Маяковский, есть и очень верные наблюдения.
Читать дальше