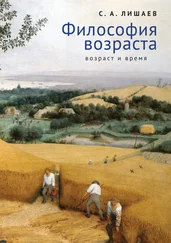О встрече на берлинском коллоквиуме Юрий Борисович рассказывал: «Тогда, в первый день нашей встречи, мы сидели на самом верху амфитеатра. Говорил Эйнштейн. Ландау морщился, ерзал поминутно: „А! Ерунда! Эх, не так все… Слушайте, Юра, что он говорит? Давайте спустимся вниз, мне ужасно хочется уговорить старика (Эйнштейну в ту пору было 50 лет) бросить заниматься единой теорией поля!“. В перерыве я с ужасом смотрел, как он спускается вниз, совсем еще мальчишка, подбирается к Эйнштейну. Но ни у кого не хватило бы смелости прорвать барьер Величия, стоящий перед теми, сидящими в первом ряду. Никто не осмелился бы на это, и Дау тоже. Он подошел, посмотрел на Эйнштейна поближе, да так и остался — на расстоянии».
Ландау рассказывал: «…Эйнштейн не мог понять основных принципов квантовой механики. Этот факт поистине удивителен. Эйнштейн совершил революцию, создав теорию относительности, и в то же время не мог понять другой революции — квантовой механики. Я пытался ему объяснить принцип неопределенности, но, как видно, безуспешно».
Это молодежь легко принимала квантовую веру. Когда смотришь библиографию тех лет, поражаешься небывалой частоте великих открытий и обилию новых имен, появившихся рядом с уже известными именами. Эти новые в ту пору имена стали теперь настолько привычными, что вряд ли студент, который обязан знать в качестве основы основ уравнения, правила, эффекты, называемые сегодня этими именами, отдает себе отчет в том, что за этими уравнениями, правилами и эффектами стояли совсем молодые люди, с их отчаянными догадками, верой и неверием.
Какая же буря была тогда! Какие были эмоции в ту пору, когда только складывались абсолютно радикальные взгляды на природу. «Но мы, пришедшие тогда к Борну, — рассказывал Юрий Борисович, — не очень понимали громадность происходящих перемен. Революционность мы чувствовали, но не слишком. Ощущения исторических масштабов, пожалуй, не было. Шла нормальная работа физиков, может быть, как теперь». Виктор Вайскопф (поступил в Венский университет в 1926 г., 1928–1931 гг. провел в Геттингене у Макса Борна) с сожалением писал: «Было уже слишком поздно, когда я вошел в физику: все области были открыты. Что же я делал?» [35, с. 20]. Что делал и чего достиг Вайскопф, хорошо известно научному миру. А вот ощущение тогда было такое: «Шла нормальная работа физиков, может быть, как теперь».
Семинары у Борна. Покупались пирожные, разливался кофе по маленьким чашечкам. В первом ряду рядом с профессором садились ассистенты, гости, потом докторанты из самых разных стран. Все казалось обычным, иногда даже скучным, особенно если на семинаре случалось выступать Дираку. Он был неважным докладчиком.
Как-то в беседе профессора Румера со студентами уже в Новосибирском государственном университете один молодой теоретик сказал: «Я мучительно переживал „Квантовую механику“ Ландау. А Дирак — это „песнь песней“, все пригнано, четко, изысканно! Какое же это было, по-видимому, наслаждение слушать самого Дирака!».
Каково же было удивление молодых людей, когда они услышали от Юрия Борисовича: «Никакого наслаждения. Слушать Дирака было мучительно. Мы воспринимали идеи Дирака и попадали под их воздействие только по прочтении его работ. А на семинаре… выходит Дирак, ни улыбки, ни энтузиазма. Берет мел своими длинными пальцами и начинает молча писать на доске формулы. Борн не выдерживает: „Поль, расскажите нам, что вы пишете?“ И Дирак, продолжая писать, начинает неохотно говорить: „Даблъю минус альфа эр пи эр минус альфа ноль эм це, и все это на пси, потом альфа мю на альфа ню…“ и дальше в таком духе, и он искренне был уверен, что объясняет. Однажды мы с Борном и Дираком гуляли в окрестностях Геттингена, около замка Плессе. Мы говорили обо всем на свете, об архитектуре, о музыке, наконец, о науке. Борн восхищался его теорией релятивистского электрона и совсем недавней догадкой о существовании положительно заряженного электрона. Дирак молча пожимал плечами. „Чем же вы нас порадуете в будущем, Дирак?“ — спросил его Борн. И тот ответил: „Nothing more. Nothing more“ [6] Больше ничем ( англ. ).
. Что же еще требовалось от человека, написавшего уравнение, которое „объясняет бóльшую часть физики и всю химию“?».
Самыми яркими становились семинары Борна, когда в Геттинген приезжали Нильс Бор, Эренфест или Паули. С Паули всегда были связаны отчаянные споры и обязательно какая-нибудь смешная история. Он обладал легендарной славой в обнаружении слабых точек в теории, и спорить с ним было очень трудно. К тому же считалось, что Паули всегда прав, и потом до ужаса прямолинейные замечания Паули вершили спор. А чтобы спор не возобновлялся, он мог, не меняя выражения лица, все в том же повышенном тоне спора рассказать соленый анекдот. Нильс Бор говорил о нем: «Каждый из нас боится Паули. Но, по-видимому, мы не столько его боимся, сколько не смеем признаться себе в том, что мы его не боимся» [11, с. 100].
Читать дальше
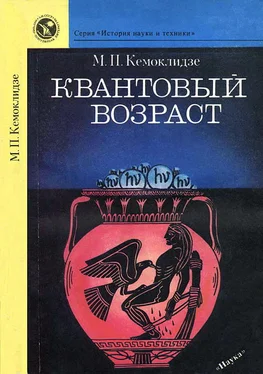





![Дерек Кюнскен - Квантовый волшебник [litres]](/books/392099/derek-kyunsken-kvantovyj-volshebnik-litres-thumb.webp)
![Герберт Кемоклидзе - Рыцари и львы [Рассказы и сказка]](/books/398461/gerbert-kemoklidze-rycari-i-lvy-rasskazy-i-skazk-thumb.webp)