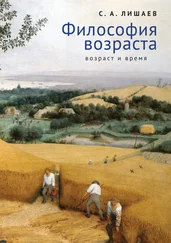Будучи в преклонном возрасте, он начал изучать русский язык, чтобы, как он писал астроному Энке, «…прочесть побольше сочинений этого остроумного математика» [Там же, с. 232]. Хотя Лобачевский непрерывно печатал свои труды и в немецких, и во французских журналах, Гаусс оправдывал изучение русского языка в том же письме к Энке просто: «Труды Казанского университета содержат массу его сочинений». И за 30 лет ни одной попытки связаться с Лобачевским хотя бы письмом! А друзьям он писал: «Лобачевский называет ее (новую геометрию) воображаемой геометрией. Вы знаете, что я уже 54 года (с 1792 г.) имею те же убеждения; по материалу я, таким образом, в сочинении Лобачевского не нашел для себя нового; но в его развитии автор следует другому пути, отличному от того, которым шел я сам; оно выполнено Лобачевским с мастерством, в истинно геометрическом духе» [Там же, с. 235]. Иметь те же убеждения и ни разу не сказать об этом публично, ни разу не послать слово одобрения самому Лобачевскому!
А Лобачевский жил и работал. В 1816 г. 24-летний Лобачевский был избран экстраординарным профессором. Несколько раз выбирался деканом, а в 1827 г. стал ректором Казанского университета. Он принял Казанский университет «в состоянии полного разложения как в научном, так и моральном отношении» [27, с. 287], университет, который представлял «жалкое и постыдное зрелище». Вскоре после вступления на должность ректора Лобачевский писал: «Сперва по предположению только, а теперь по собственному опыту могу сказать, что должность ректора огромна… Я уверен, что Вы не примете слова мои, будто я хочу увеличить в Ваших глазах мои труды. Не хочу также слишком мало и на себя надеяться. Наконец, мой нрав не таков и правила, чтобы унывать и раскаиваться, когда нельзя помочь чему. Простительным мне кажется робеть, когда еще надобно решиться, но когда дело решено, то не надобно падать духом. Так Вы заметили, без сомнения, сколько я колебался и искал даже уклониться; теперь хочу быть твердым и стараться всеми силами» [28, с. 75].
Таким он был во всем и во всем старался «всеми силами». Он читал лекции почти по всем разделам математики: по опытной физике, астрономии, гидравлике и гидростатике. Он выстроил при университете химическую лабораторию и физический кабинет, астрономическую обсерваторию, анатомический театр с клиниками; при этом он старательно изучил строительное дело и архитектуру. Он собрал блестящую библиотеку и выстроил для нее сводчатый зал, был одним из инициаторов создания Казанского экономического общества.
Лобачевский был настоящим рационализатором не только в научных и общественных делах, но и в ведении собственного хозяйства. У себя в имении он разбил сад и ввел свою оригинальную систему травосеяния, разводил породистый скот и даже был награжден серебряной медалью за мериносовую шерсть, представленную на Петербургской сельскохозяйственной выставке. Он построил плотину и водяную мельницу, придумал новую форму улей. Правда, в этих делах его преследовали неудачи, которые привели в конце концов к разорению, но до конца своих дней Лобачевский оставался верен себе: «…мой нрав не таков и правила, чтобы унывать и раскаиваться, когда нельзя помочь чему».
И так же в своей геометрии. Он работал над ней непрерывно в полном научном одиночестве и создал ее в настолько завершенном виде, что потомкам осталось только применить ее. Не был одинок Лобачевский только для одного человека — Гаусса. И не только потому, что Гаусс сам пришел к неевклидовой геометрии и полностью признал для себя труды Лобачевского, а потому, что в руках у Гаусса был еще один труд — полное и последовательное изложение основ новой геометрии молодого венгерского математика Яноша Бойаи. Янош Бойаи вошел в историю науки наряду с Лобачевским как создатель неевклидовой геометрии. Но это благодаря потомкам. Яношу не было и 20 лет, когда он создал свою геометрию. Отец Яноша, Фархаш Бойаи, близкий друг Гаусса, вместе с ним занимавшийся в молодости параллельными линиями, то молил, то грозно предостерегал сына от занятий этой «беспросветной тьмой». Но Янош победил эту «тьму». Он писал отцу: «Правда, я не достиг еще цели, но получил очень замечательные результаты — из ничего я создал целый новый мир!» [29, с. 18].
Янош долго писал свой труд. Отец работу сына не признал, но согласился поместить ее в качестве приложения в своем учебнике по математике «Тентамене» и послал «Тентамен» Гауссу с просьбой прочесть «Аппендикс» Яноша и оценить его. Ответа от Гаусса долго не было. Затем он пришел. Этот ответ Гаусса для Яноша обернулся трагедией. Из него следовало, что Янош ничего нового не сделал, что Гаусс давно, еще 30 лет тому назад, получил эти результаты. Но дело даже не в приоритете, неважно, кто первый. Янош и не мыслил тягаться с Гауссом. Важно, чтобы истина, научная истина заняла подобающее ей место, и кому, как не первому математику мира, следовало это сделать. И Янош Бойаи все-таки надеялся, надеялся и ждал, что когда-нибудь получит одобрение и признание Гаусса. Ждал до самой своей безумной старости, но так и не дождался. Он заболел тяжелым душевным недугом и умер одиноким и бесславным. Похоронили Яноша Бойаи в общей безымянной могиле, а в церковной книге была сделана запись: «Его жизнь прошла без всякой пользы» [30, с. 98].
Читать дальше
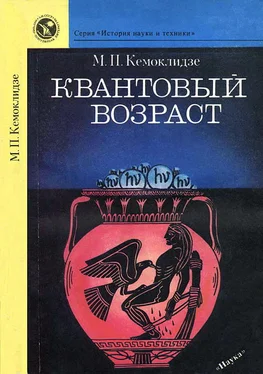





![Дерек Кюнскен - Квантовый волшебник [litres]](/books/392099/derek-kyunsken-kvantovyj-volshebnik-litres-thumb.webp)
![Герберт Кемоклидзе - Рыцари и львы [Рассказы и сказка]](/books/398461/gerbert-kemoklidze-rycari-i-lvy-rasskazy-i-skazk-thumb.webp)