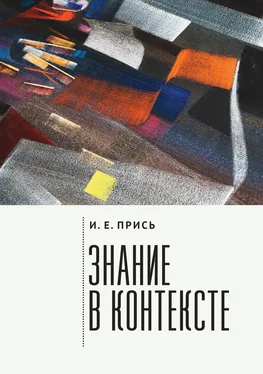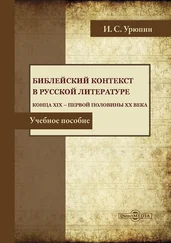На самом деле, это понял ещё Кант – прагматист avant la lettre, как считает Р. Брэндом. Аналитический прагматизм Брэндома пытается синтезировать прагматизм, эмпирицизм, натурализм и рационализм [17]. Брэндом также интерпретатор Гегеля [18]. Несмотря на то, что его неогегельянская позиция в значительной мере идеалистическая, на наш взгляд, она может быть преобразована в к-реализм [19]. Мы упоминаем здесь позицию Брэндома в связи с к-реализмом, поскольку его нормативный прагматизм тоже вдохновляется поздним Витгенштейном.
Некоторые авторы отмечают, что у древних греков смысл понятия «алетейя» отличается от того смысла, который ему придал Хайдеггер. Для греков оно означало «припоминание» и противопоставлялось не лжи, а забвению [21].
В частности, Ж. Бенуа отвергает спекулятивный реализм Квентина Мейясу, пытающийся преодолеть, якобы существующую (нео)кантианскую субъект-объектную корреляцию, и постигнуть Абсолют, находящийся за её пределами [22].
Т. Уильямсон считает, что Платон рассматривает определение знания как истинного обоснованного мнения, чтобы его критиковать [11].
Для Куайна эпистемология – «раздел психологии и, следовательно, естественной науки» [44]. В то же время Куайн признаёт, что эпистемология – нормативная наука. Концепты обоснования, очевидности, истины, знания – нормативные концепты. Он пишет: «Натурализация эпистемологии не отбрасывает нормативное и не довольствуется неизбирательным описанием имеющихся процедур. Для меня нормативная эпистемология – раздел инженерии» [45].
Отметим, что отсутствие знания в оригинальных случаях Гетье может быть объяснено не только теорией М. Кларка, но также и в рамках других теорий. Например, с точки зрения эпистемологии добродетелей Дж. Греко в этих случаях, несмотря на подходящее использование субъектом своих когнитивных добродетелей, это не является причиной истинности его убеждения (между тем и другим имеется причинный провал). Согласно эпистемическому контекстуализму Д. Льюиса очевидность, которой располагает субъект не позволяет исключить, что его убеждение ложно, то есть существует возможная по отношению к этой очевидности и релевантная в данном контексте ситуация, в которой его убеждение ложно. (См. ссылки на работы Кларка, Греко и Льюиса [5])
По словам Голдмана он заимствовал этот пример у К. Жине (Carl Ginet) [30]. Поэтому иногда говорят о «кейсе Жине-Голдмана».
В то же время они могут рассуждать так: «Мы то знаем, что это амбар. Но мы также знаем, что в окрестностях имеется много фальшивых амбаров. Поэтому Генри не знает, что это амбар.» С другой стороны, при данных практических условиях различие между знанием Генри и его просто истинным обоснованным мнением не наблюдаемо, так как всё, что случается, случается в окрестности (подлинного) амбара. Если, например, предположить, что Генри, когда он гонит к амбару корову, сбивается с пути и видит другие «амбары», которые, на самом деле, лишь фасады амбаров, интуиция, что он знает, что он гонит корову к амбару, ослабевает.
В одном из примеров Уильямсона, вор-домушник несмотря на то, что он не может найти в доме драгоценности, продолжает их искать в течение длительного времени. Этот факт можно объяснить тем, что он знает, что драгоценности находятся в доме.
Мы употребляем здесь термин «внутреннее», вообще говоря, не в интерналистском смысле. В респонсибилизме – разновидности эпистемологии добродетелей – речь идёт о применении высокоразвитых интеллектуальных способностей субъекта. Это интерналистский подход. Но в том случае, когда речь идёт о применении надёжных когнитивных способностей субъекта, например, перцептивной способности, мы имеем дело с экстерналистским подходом. И в том, и в другом случае, однако, мы говорим не о характеристике внешней среды, а о внутренней характеристике познающего субъекта.
В то же время, как полагает Уильямсон, стандартные эпистемологические теории не приближают нас к истине, так как они начинают изучать знание не с того конца. Для Уильямсона знание концептуально неанализируемо. Концепт знания первичен. Исходя из понятия знания, объясняются другие эпистемологические понятия, а не наоборот.
Случаи типа Гетье показывают, что выполнение трёх классических условий – наличие убеждения/мнения, его истинность и обоснованность, – вообще говоря, недостаточно для наличия знания. Но необходимы ли они, то есть необходимо ли обоснование? Релайаблизим утверждает, что наличие эксплицитного обоснования не необходимо. Релайабилизм объясняет, например, знание, приобретаемое в результате непосредственной визуальной перцепции объектов.
Читать дальше