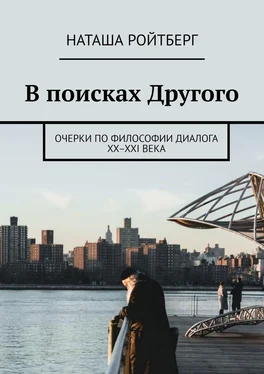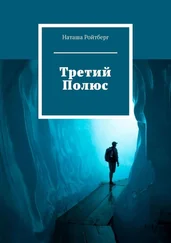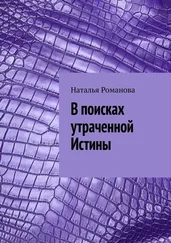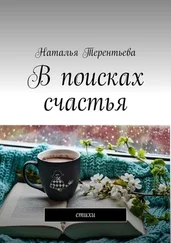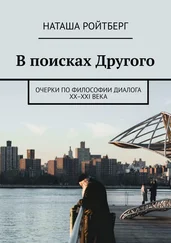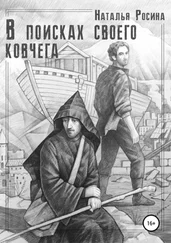Принципиальный интерес Вальденфельса к порядку и «режиму», «системе» обусловлен не только и не столько их историей и классифицированием, сколько изучением их потенциального транснгрессирования, погружения и саморастворения в том, что лишено смысла и неупорядочено.
Порядок основан и легализован чем-то, находящимся вне его самого, и это «что-то» не может просто быть интегрировано в порядок, тем не менее, оно может рассматриваться как подоснова порядка, просвечивая сквозь прорехи и слепые точки, становясь зримым в некоторые моменты сумерек, проявляясь в Другом — «one would glimpse as undergirding an order, through its gaps and in its blind spots, in its moments of twilight, is the alien, das Fremde» (перевод мой — Н.Р.) [118, c. 69]. В этом контексте Другой может быть описан как иной, принадлежащий другому порядку, или изначально иному. Но что это значит — адресовать наши вопросы Другому, кто бы он ни был — иной, чужак, прохожий, измерение чуждости, модус инаковости? Ответ на этот вопрос заключен в событии трансгрессирования. Вопрос как событие, акт вопрошания, провоцирует ответ, отвечание. Другой представляется как центральная фигура всего нашего опыта, а не как что-то обособленное и специфическое.
По Марку Алану Оуакнину, экзистенциальный или ситуативный подход к анализу текста основан на персональной вовлеченности, погружении исследователя в событие понимания как особую форму диалога.
По сути, не текст понимается нами, но скорее, мы, читатели, понимаем себя через текст («not the text that is understood but the reader understands himself» (перевод мой — Н.Р.) [119, c. 59]). Следовательно, пытаться понимать текст — это значит «примерять» его к себе, «подгонять» под себя. Но такое примеривание ни в коем случае не должно принижать либо искажать текст, т.к. мы знаем, что текст может и должен пониматься как нечто отдельное от нас. Исследователи настаивают на том факте, что понимание и интерпретация неразрывно связаны.
Комментатор может подходить к анализу текста сквозь призму всего своего опыта. Следует опасаться объективистского или псевдо-объективистского усилия, которое ведет к насильному категоричному и абсолютному отсеканию себя от смысла и значения текста. В любом случае, комментатор неминуемо оказывается вовлечен в поле смыслов и значений, много более глубоких и пространных, чем те, что он сам высказывает или в которые верит. Он также не подчиняется так называемому исходному тексту. Интерпретация подразумевает разрыв открытого литературного пространства — текст больше не следует рассматривать в ракурсе линейности, но в его пространственности, его объемности. Наличие уровней смысла и правил толкования сводит к нулю возможность присвоения текста, т.е. пресекания и аннулирования его другости и экстериорности (открытости вовне).
Иными словами, толкования и интерпретации никогда, в сущности, не проникают в сам текст. Это является своего рода гарантией неприкосновенности текста и залогом его неисчерпаемого богатства и непереводимости. Как коллекция, набор совершенных знаков, текст никогда не может быть постигнут. Текст является одновременно «видимым и невидимым». Текст может быть «снят», «считан», только если мы позволим себе это.
Этот способ бытия — своего рода «забота» — модальность субъекта в его взаимоотношениях с текстом, модальность, выходящая за рамки отношения, и может быть названа исследованием. «Опробовать» текст — значит понять его, постигнуть, поймать, обладать им, потому что это именно эта его повторяемость и составляет всю его сущность» («To have» an experience of the Text is to understand it, grasp it, possess it, because it is its repetition that gives it substance» (перевод мой — Н.Р.) [там же, c. 64]). Но став однажды видимым, уловимым, текст принимает форму и статус идола. Его язык становится тоталитарным. Идол-текст начинает крушить и подавлять своей неизменностью и мнимой сверх-значимостью. Таким образом, текст должен быть неуловимым, неприступным, и никогда не принимать форму идола. «Опробовать» означает участвовать в открытии. Система интерпретации — помимо ее важности и необходимости для установления взаимопонимания — основана на стремлении отказаться от идолопоклонства. Текст, который является, по сути, одним из основных проявлений отношения к Б-гу, не должен превратиться в идола.
Чтобы избежать ловушки идолопоклонства — иллюзии обладания смыслом — еврейская традиция ввела понятие «уровень смысла» (level of meaning).
Например, Гематрия — это «метод интерпретации, инструмент для открытия текста. Это не само мышление, но отправная точка для мысли», Нотарикон — метод, который заключается в «разложении слова на две или более частей» [там же, c. 76]. Оуакнин предполагает, что акт интерпретации не только делает текст релевантным определенной экзистенциальной ситуации его прочтения, постижения, но — более того — в процессе интерпретации читающий (реципиент) становится участником диалога между человеком и Б-гом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу