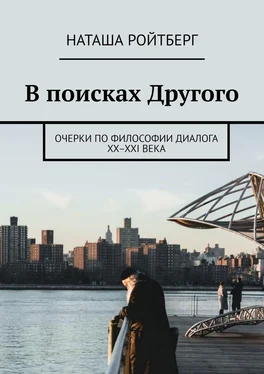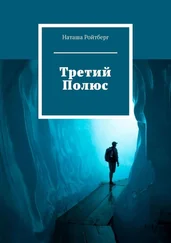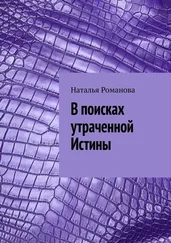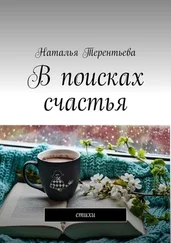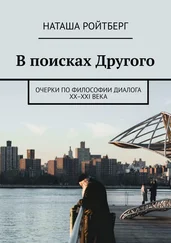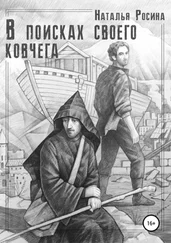Также для любого диалогиста основными конституирующими понятиями являются понятия «я», «ты» («другой»), «отношение», «встреча», «самость».
Мы выяснили, что жизненно-практические и творческие установки диалогической философии сводятся к невозможности существования и возникновения «Я» без предшествующего ему «Другого»; противостоянию объективации, техницизму как миру безличного «оно»; примату ответственности и этики; утверждению в качестве высшего вечного Ты — Б-га.
Спецификацию буберовского видения диалогического измерения можно охарактеризовать как мистически-экзистенциальную, но с опорой на конкретность эмпирики: все в мире органически связано и за восстановление мировой гармонии ответственен каждый человек каждым своим прожитым днем, ситуация «космической бездомности» и «проблема человека» могут быть разрешены в контексте ориентации на приоритет сферы отношения я-ты (Ты). Бахтин видит диалог в эстетически-этическом ракурсе: для него это поле взаимодействия автора художественного произведения и его субъектов, человека («я») с человеком («другой») и трансцендентным началом («над-адресат»), одного смысла и культуры («малое время») со множеством других («большое время»), где оппозиции квази-диалогического и подлинно диалогического («мир культуры»/«мир жизни») снимаются в свете универсалии поступка и диалога. Для Левинаса диалог носит мета-этический, про-Мессианский характер, понятие диалога фундировано приматом метафизики над онтологией и феноменологией, где во главу угла поставлен этос моей ответственности за другого, который есть одновременно и самый ничтожный среди всех («пришелец и сирота»), и тот, через которого может быть явлено лицо Всевышнего.
Что касается идей про-диалогических мыслителей начала XXI века, то они во многом являются переосмыслением и рефлексией главных постулатов и смыслов диалогического мировосприятия, сформулированных в работах их предшественников.
Так, например, Бернхарда Вальденфельса не без основания принято именовать не иначе как «немецкий Бахтин» («Кое-кто из женщин сказал, что внешне Вы напоминаете Гегеля, а по Минску ходят разговоры, что к нам приехал немецкий Бахтин. Многие участники семинара даже называют Вас — Михаил Михайлович Вальденфельс…» [122]): его парадокс науки о «Чужом», попытка размежевания своей культуры и чужой без ущерба для последней, стремление воспринять и понять опыт «Чужого» и дать ему ответ более чем созвучны культурологической этике и эстетике диалога Михаила Бахтина. И определяющими здесь являются не только и не столько глубина и масштабность высказываемых идей, но «закавычивание» слова «чужой» как сигнал ложной отчуждаемости: то, что мы считаем или склонны воспринимать как чужое, на самом деле таковым не является. Помимо этого, феноменология Вальденфельса была бы невозможна без проработки идей Гуссерля, а ее идейный стержень и наполнение сопряжены с достижениями таких философов как Левинас, Фуко и Деррида.
Губерт Херманс создает свою теорию диалогического «я», во многом опираясь на природу и содержание самости У. Джеймса, а также идею полифонического (многоголосого) романа М. Бахтина. По Хермансу, наше «я» — это множество сообщающихся между собой «я-позиций», найти и осознать свою самость можно только через принятие другого как другого-во-мне.
Марк Алан Оуакнин посвятил свою научную работу комментированию и разъяснению философии Левинаса, в частности, сопоставлению и сравнению его идей и концепций с текстами еврейской традиции — в первую очередь, хасидскими текстами и текстами Каббалы. Кроме того, Оуакнин уделяет пристальное внимание философскому наследию вне еврейской традиции, например, таким европейским мыслителям как Жак Лакан и Морис Мерло-Понти.
Любопытно, что в диалогических концепциях многих из рассмотренных нами философов так или иначе проявлена ориентация диалога на трансгрессию как абсолютизацию состояния переходности. У Бубера это мистическое «исхождение из себя» («экстаз»), апеллирование к понятию «между» (т.е. к своего рода «границе»), феномену «зова» (как приходящей извне силе, открывающей выход в иное измерение реальности). Бахтин настаивает на необходимости преодоления «малого времени», «малого опыта», вводит понятие «вненаходимости», говорит о взаимодействии «своих» и «чужих» слов, обосновывает разнонаправленность двуголосого слова, рассматривает карнавал как временное преодоление мира официальной культуры ради культуры смеховой. В работах Левинаса такими отсылками к феономену трансгрессии можно считать признание «второго транса»; введение понятий «экстериорность» и «бесконечное», «след», «высь» как экспликантов находящегося по ту сторону реальности; использование метафоры Мессии как символа духовного прорыва и устремленности вовне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу