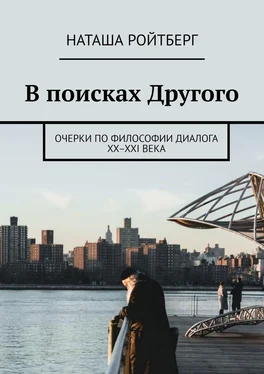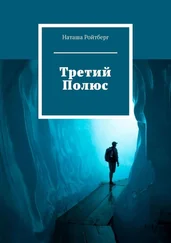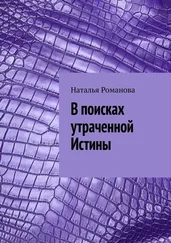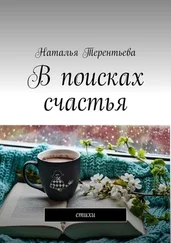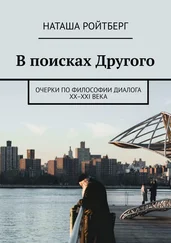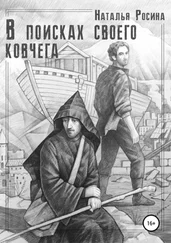Последнюю можно и нужно рассматривать как ответ на необходимость смены «парадигмы гуманитарного мышления», продиктованный рядом процессов мирового масштаба, общей ситуацией в культурной и социально-политической сфере, а также спецификой «рубежного сознания»: возникнув и сформировавшись в 1920-е годы, «философия диалога» получила второе дыхание в 2000-е.
«Философия диалога» представлена в книге как «антропологический переворот» — смена парадигмы художественного сознания и радикальное преобразование эпистемы. Обращение философов-диалогистов к проблемам слова и языка, религии и веры, этики и бытия, к антропологическому вопросу можно объяснить стремлением выявить глубинную диалогичность человеческой жизни. Диалогика фундирована приматом диалогического отношения как особой жизненной и мировоззренческой установки, что проявляется в феноменах диалогичности слова, статусе диалога.
В чем же заключается суть диалогичности слова?
Обзорное расмотрение культурно-философского наследия свидетельствует, что слово анализируют преимущественно в таких аспектах, как: языковой (слово как знак), онтологический (слово как со-бытие и событие) и религиозный (слово как сверх-бытийное «Слово», которое есть Б-г и любовь).
Опираясь в основном на работы мыслителей русского религиозного Ренессанса (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский), «классиков» философии диалога (М. М. Бахтин, М. Бубер, Э. Левинас, О. Розеншток-Хюсси) и достижения современных ученых в сфере изучения и анализа слова и диалога (М. М. Гиршман, В. А. Малахов, М. А. Оуакнин, Б. Вальденфельс и др.), мы показали важность и обязательность непосредственной взаимосвязи между «знаковостью», «бытийственностью» и «религиозностью» слова в контексте диалогичности последнего. При этом, на наш взгляд, именно диалогичность является приоритетным аспектом в контексте восхождения слова к религиозному Слову и бытию-общению.
Отраженная в бытийном статусе языка онтологически-религиозная природа диалогичности слова обуславливает и соответствующее понимание диалога не только как коммуникационной интеракции, дискурсивного взаимодействия и диалогического общения, но и как фундирующего начала человеческого сознания, мышления и самой жизни не только человека, но и всего мироздания. Так понятое слово неминуемо и необходимо обуславливает взаимосвязь языкового, онтологического и религиозного аспектов, подчиняя их диалогическому «вектору» — установке на «бытие-общение» как некую сверхзадачу.
Мы прояснили понятие «диалог» посредством поочередного рассмотрения и сравнения таких его форм как дискурс, диалог как таковой, коммуникация и «бытие-общение». Все выше рассмотренные аспекты диалога можно обозначить как различные типы достижения понимания и согласия, по-разному соотносимые со «знаковостью», «бытийностью» и «коммуникативностью» и акцентирующие внимание на тех или иных сторонах взаимодействия. Понятие «диалог» отличает от смежных с ним понятий «коммуникация» и «дискурс» (а также «общение», «наррация» и др.) направленность на понимание, постижение, использование вербальных средств и «онтологичность».
Последним можно объяснить описание сущности диалога посредством использования близких ему обозначений интеракции, но с добавлением слов, указывающих на примат бытийственности в диалоге: не «коммуникация», а «онто-коммуникация» (В. И. Тюпа), не «общение», а «бытие-общение» (М. М. Гиршман). Рассмотрев основные принципы философского учения и проследив главные черты самобытности мышления конкретных философов-диалогистов (М. Бубер, М. М. Бахтин, Э. Левинас, Г. Херманс, Б. Вальденфельс, М.А.Оуакнин), мы попытались соотнести их между собой.
Прежде всего, автор акцентировала внимание на экзистенциально-онтологическом пафосе «философии общения», в основе которого лежит заинтересованность жизнью конкретного, здесь и сейчас живущего индивида, его эмпирикой и взаимоотношением с окружающим миром, где антропологический вопрос и проблема человека поставлены во главу угла.
Несомненной «константой» учения каждого из рассмотренных диалогистов является этическая константа, принцип долженствования, ответственности: будь то буберовская «мощь бесконечной ответственности» («Я не знаю больше иной полноты, кроме полноты каждого смертного часа с его притязанием и ответственностью» [94, с. 135]), левинасовская про-Мессианская «жертвенность» перед Лицом; бахтинское «не-алиби в событии бытия»; умение найти и «культивировать» другого-во-мне у Херманса; принятие опыта «Чужого» и недопущение его опредмечивания у Вальденфельса или крайняя степень аккуранности и особый вид отношения к Тексту — Махлокет — у Оуакнина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу