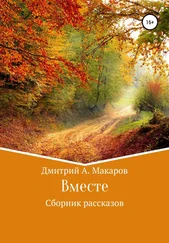И вот ничего смешного. Так и зовут – Ван Гог. Мама, конечно, была та ещё поклонница, хоть и ни одной картины не видела, только мочки ушей, да и то не те. С именем – «Ван» – всё просто. Для мамы это означало с английского «первый». Уж такой она была знаток. Как в языке, так и в нидерландской живописи. С «Гогом» – фамилией – всё куда закорючнее, здесь пришлось подключать верную подругу, то ли мистрессу зоопарка, где жирафы, то ли директрису ЗАГСа, то ли другую какую столоначальницу. В общем, вышел на свет Ван Гог, хоть и мать, по скромности своей, оставила себе девичью фамилию и до самого конца своего, мирского и юдольного, значилась в бумагах Ивановой. Простой, не в себе русской бабой. Изображать же она любила. Отсюда, видимо, и любовь. Ей, порой, так и говорили: «Иванова, ну чего ты опять изображаешь?..» Иногда с ноткой недовольства. Почти всегда. В постели – с придыханием. Отца же своего Ван Гог не знал. Может быть, Гоша, Гога, Игорь, Егор, Георгий, – кто его разберёт. Сам же Ван Гог пыхтел с балкона трубкой, сплевывал горечь, и знать ничего не желал, а когда ему пытались рассказать, например, какой-нибудь исторический анекдот или еще какую-нибудь интеллигентную хохму, то он по обыкновению взмахивал рукой, что означало: «Идите-ка вы на/в половой». На женский или мужской не уточнялось, но по предлогу можно было догадаться.
Окончив семилетку, с почетным изгнанием за драки и разрисованный пионерский галстук туда же, куда он взмахивал рукой, Ван Гог испытал все прелести бездомной кошачьей жизни. Хоть и дом был – полная чаша. Охранители ловили, спрашивали, сидя на скрипящих стульях, как его зовут, он с наивной ухмылкой отвечал. И был бит неоднократно в комнате отдыха мокрыми полотенцами и электричеством, но признание было всегда одним и тем же: Ван Гог и все тут. И сказать мне вам больше нечего. Хоть на ленточки режьте для бескозырок. Правда всплывала одновременно с подтеками на подсолнечном вангоговском лице – и его отпускали в полную чашу зализывать раны. Нализывался Ван Гог старательно, неоднократно, до полусмерти и пьяной комы. Когда же выходил на свет, новорожденный, молча требовал книжек, брался тонкими пальцами за корешки и читал, застывая у книжного шкафа в одной рубахе.
Добравшись до футуристов, он присел и выразил звукоподражательное, будучи совершенно равнодушным к закручиванию, всёкасти и будетлянству, но раскусив всё это бунтарство в первой же своей фразе. Иванова, некстати оказавшаяся рядом, изобразила о передник руками, и вызвала специалистов по лингвистическим изыскам, не вовсе понятным простым женщинам без филологического образования. Специалисты решили заковыку на раз, кивнули, выслушав Иванову, кивнули, выслушав Ван Гога, вкололи успокоительное последнему и отвезли в неизвестном направлении в дом с башенками и зарешеченными окнами.
Внутри оказалось все то же самое, что и в комнате отдыха у охранителей. Те же мокрые полотенца, но на спинке койки (от латинского «саvеа», то бишь «клетка») в изголовье. То же электричество, но уже лечебное. Таблетки на любой цвет три раза в сутки после столовой и перед примотанной к койке бессонницей. Врач вызывает раз в неделю, смотрит сквозь очки, банально в белом халате и с бородой – тут не обойтись без скуки – спрашивает доверительным голосом, Ван Гог же правдив и честен. Сбрить бы вам бороду, – ухмыляется, ясноглазый – выйдет по-настоящему – либо дурак, либо хлякалка. Хлякалка? Очки поднимаются ухоженной рукой. Веки натягиваются. Именно. Не будь бороды, так и облысели бы в регистратуре, несмотря на докторскую. Лучше обмазывать сметаной. Веки приходят в исходное состояние, очки оседают на переносице, почерк на бумаге неровный. Подписано и печатью заверено: электричества не жалеть, красок не давать, пусть в потолок смотрит, умник.
И умник смотрел в потолок после процедур и пытался вспомнить. Как же это чудно цвета переходили из теплого в прохладное, из нежности в одиночество, из слез в любимую улыбку, как же это? И представлял, что руки его свободны, как и все его тело, и он – нерукотворный Ван – танцует из холста в холст, из книги в книгу, застывает скульптурой неизвестному в шляпе, да, шляпа бы пригодилась на солнце, чтобы не напекло и не сойти с ума от удара, впрочем, регулярные громы и молнии, с предварительным закусыванием удил, чтобы зубы не раскрошились от буйства цвета, должны закалить. Больше всего непонятно и как-то скукоженно: почему в процедуре присутствует корень -шок-, если настоящий шок – это когда дурак и хлякалка, вместо того, чтобы как-то исправить постыдное положение, прячется за бороду, за атавизм, так сказать, дурак никогда, и правда. Ван Гог не спал и смотрел на потолок, под которым гудела денно и нощно синяя лампа. За неимением других. Но ему нравилось. Будто в стратосфере плывет. И мимо проносились русские МиГи, сплющенные давлением пилоты салютовали земляку, оказавшемуся в небе и открывшего небо заново. Будто прежде и не было. Было, но не такое.
Читать дальше