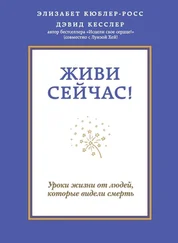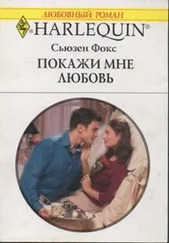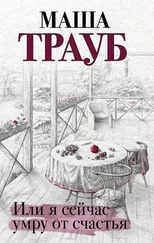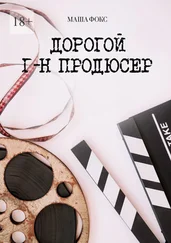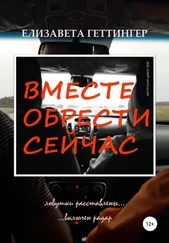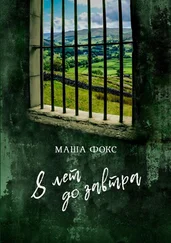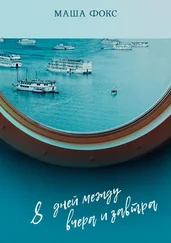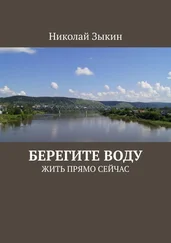«Бедному собраться – только подпоясаться», – но вслух я этого не сказала. Мычала сквозь слезы и головой кивала, как будто она меня увидеть могла.
Душа, совершившая предательство,
всякую неожиданность воспринимает
как начало возмездия.
( Фазиль Искандер
)
Поселок Перемогово – это, конечно же, не Переделкино, но тоже не абы как построен. Когда-то академические дачи стояли в сосновом бору, и никаких заборов между ними не было. Их первые владельцы, в основном физики-ядерщики (как Динкин отец), ходили-гуляли в полосатых штапельных пижамах меж рыжих прямых, как полоски этих пижам, стволов столетних сосен; время от времени наклонялись, чтобы подобрать особенно крупную ягоду земляники или черники. Погуляв по лесу, поздоровавшись с соседями и обменявшись впечатлениями о погоде, они возвращались в дом, поднимались на второй этаж, где у большинства из них в застекленных наборным стеклом эркерах-балконах стояли письменные столы. Жена или домработница – у кого как – приносила чай в подстаканнике и вазочку с сушками-пряниками. Академики садились за работу над своими чертежами, расчетами, записями, и, подняв головы от бумаг, любовались панорамным видом хвойного вечнозеленого леса и зелеными же крышами поселка, затерявшегося в нем.
Теперь настала моя очередь сидеть за таким столом. Снаружи, правда, многое изменилось. Лес поредел, и между участков появились заборы, на многих дачах возникли дополнительные пристройки: гаражи, теплицы, бани; да и сами дачи обросли дополнительными верандами, навесами для барбекю, всякого рода клумбами и даже рядами огородных грядок.
Мне плевать. Во-первых, под снегом половины этих признаков цивилизации и не видать, во-вторых, я мало смотрю вдаль. Меня от пейзажа, помимо каким-то чудом сохранившихся разноцветных витражных окон, отделяет экран ноутбука, за которым я провожу бОльшую часть своего времени. Вот откуда аналогия с Переделкино. Я почти писатель. У меня целая куча идей, но пока это все зарисовки и короткие рассказы, которые однажды сложатся в книгу и… кто знает, может быть, даже не в одну.
Дина счастлива: ей есть о ком заботиться и кому регулярно, каждые два часа, приносить свежую кружку чая, печеньки или пирожки. Она спрашивает, что я хочу на ужин и уходит вниз, стараясь не греметь кастрюлями – не нарушать тишину, так необходимую писателю. КАЙФ!
Иногда компанию мне составляет Тоби. Он уже не молод, и бегать вверх-вниз на второй этаж ему не очень легко, но время от времени он забывает об этом (особенно, если пирожки обещающе пахнут курицей или мясом) и с радостью сопровождает хозяйку, забыв уйти с нею вместе. Он мне не мешает. Просто подходит к столу, кладет свою лобастую голову мне на колено и смотрит вверх в лицо, пытаясь перехватить взгляд, с выражением: «Ведь ты же не съешь все это сама, одна? Ведь правда?»
«Правда, – говорю я, – нас с детства учили делиться», – и половина пирожка исчезает в мокрой слюнявой пасти (хорошо, если пальцы успеешь отдернуть, а то и они часто рискуют стать гарниром к пирожку). Сглотнув в один мах подачку, он укладывается рядом на овальном коврике, связанном крючком из полосок старых тряпок. Все забываю Дину спросить: сама вязала или по воскресеньям на местном рынке продают? Пес сладко спит, трогательно положив голову между передними лапами.
Мне жаль, что последние годы жизни моя мама тяжело болела. Она умирала долго и в болях, с регулярными визитами неотложки для укола наркотика. О собаке не могло быть и речи. Позже, уже в браке, мы оба много работали и одинаково много путешествовали, так что заводить собаку тоже было негуманно. Собаке, как ребенку, нужен дом и любящие родители, а лежать целый день под дверью в ожидании, когда они придут и поведут тебя гулять, – это ж и есть «собачья жизнь». Мне всегда, все эти годы хотелось иметь в доме любовь и собаку.
Теперь же мечта почти сбылась. Я любима и охвачена Дининой заботой, у меня в ногах лежит пес, которого я уже успела полюбить. Он это знает, платит мне тем же, и я сижу у компьютера, объятая этим почти забытым чувством душевного тепла, и слова льются из меня как песня.
Когда я уезжала еще из СССР к мужу в Англию, добрая советская власть за любовь к иностранцу уже не отправляла любящее сердце в Сибирь, но гневно осуждала, позволяя взять с собой только самое необходимое, и не больше ста килограммов этого самого необходимого. Практически ничего из наследия предков: все, что каким-то чудом избежало военных обменов на буханку хлеба или ведро картошки, все теперь стало настоящими ценностями, и ни икон, ни картин, ни драгметаллов (у меня, слава богу, ничего этого и не было) везти с собой не разрешалось. Даже картинки друзей-художников, которых не выставляли ни на одной выставке и в Союз художников не принимали, даже на эти почеркушки нужно было брать разрешение специальной комиссии Министерства культуры. Часто, кстати, министерство находило эти картинки художественно ценными, и на их вывоз давалось разрешение, но с уплатой какого-то совершенно нереального для советской ценовой действительности таможенного сбора. Картинки я оставила первому-бывшему мужу, сама же прихватила простой советский чемодан из кожзаменителя, в котором неплотно сложилась кой-какая одежка, неподъемная шуба из нутрии, черная мужская шляпа и большая подарочная коробка из-под набора шоколадных конфет. Содержимым коробки были фотографии мамы в ролях, какие-то афиши ее спектаклей и чудом сохранившиеся письма. Папины к ней, в ее гастрольные поездки, и несколько писем-треугольников от нее к нему, посланных в конце войны из частей, где давал свои концерты фронтовой театр, с которым мама сопровождала нашу армию-победительницу в ее освободительном походе по Восточной Европе. Таможеннику, досматривающему мой багаж, было гораздо интереснее знать, сколько бутылок спиртного и блоков сигарет я везу, и, заглянув в полупустой чемодан и не обнаружив там контрабанды, он ткнул пальцем в коробку: «Это что?» – «Конфеты – подарок для будущей свекрови». Почему-то он удовлетворился моим ответом и не потребовал ее открыть.
Читать дальше