Как бы там ни было – оно уже было.
Но отчего-то мне кажется, что прошлое не исчезает: потому что мне теперь никогда ничего не забыть.
Так, может быть, не так я сейчас живу, не того люблю, не теми дорогами хожу и не с теми встречаюсь? Зачем было всё это? И разве могло это быть просто частью моего пребывания на этой планете, великой эпохой, никак не связанной с моей последующей жизнью, а потому бесследно канувшей в вечность – навсегда, без обещаний вернуться, без шансов исправить ошибки и переосмыслить то, что так было похоже на единственную любовь? Может быть, просто взять трубку и ещё раз ему позвонить?
А может быть, всё это – не более чем просто разминка перед настоящей, полноценной действительностью? Но где же взять мне любовь, схожую по силе с той, утраченной, если после долгих лет укрепления сердечного иммунитета душа стала едва ли способна удивляться чему-то, трепетать, как прежде, и любить, как любила тогда?
Кажется, рунет всё-таки прав.
Как изменить жизнь.
И только, и только осенний дождь в окно.
О, сколько, ты знаешь, сколько мне без тебя дано.
«ДДТ» – «Контрреволюция»
Двадцать второе октября. Москва, усадьба «Кусково».
На мне тёмно-синие джинсы и кожаные полусапожки, в которые эти джинсы аккуратно заправлены; белая, в тонкую цветную полоску рубашка и короткая куртка, отороченная мягким коричневым мехом. Волосы у меня светлые, чуть ниже плеч. В объектив серебристой «мыльницы» я тщетно пытаюсь поймать стаи разлетающихся над моей головой тёмных ворон – крикливых, чётко выделяющихся на фоне ясного неба и ветвей почти облетевших деревьев…
Мне девятнадцать лет. Я слушаю новосибирскую группу «Иван Кайф», Шевчука и Летова, – и плеер у меня неприлично старый, ещё для дисков, с потёртыми от времени кнопками. Я живу за городом, в кирпичной пятиэтажке, в тесной квартире, с мамой, бабушкой и младшей сестрой, и все, конечно, друг другу мешают, ни у кого нет своего угла, – а ещё мы затеяли ремонт в новом доме и нам катастрофически не хватает на него денег: папа год назад уехал на заработки, да там и остался, мать получает очень мало, а я пока не работаю. Но когда-нибудь мы обязательно доделаем ремонт, и в новой квартире у меня будет своя отдельная комната: её просторный балкон выходит на заросший пруд и набережную, которая по вечерам освещается коваными фонарями, а прямо под окнами – та самая детская площадка из снов, с которой ночью доносится тихий скрип качелей, звук гитары и чуть тревожный шелест тополей…
Я жду, всё время жду счастья, и я, конечно, уверена: счастье – это любовь. Иногда оглядываюсь в метро – и мне кажется, только что она опять прошла мимо: тот симпатичный парень в ярко-жёлтой футболке, который улыбнулся мне с встречного эскалатора… Хотя, как говорится, если удалось уйти от судьбы – значит, не судьба. К тому же, меня, уж если начистоту, вовсе не тяготит моё полудетское, трогательное одиночество: у моих подруг всё точно так же – да так, наверное, и должно быть в девятнадцать лет, на самом краю юности, на пороге чего-то нового, уже витающего в воздухе, совсем другого.
Учусь я в Московском университете на юридическом – и у меня нет ни малейшего представления о том, кем я буду через несколько лет. Пока мне просто нравится валять дурака на лекциях по какому-то праву: мы с моей подругой Надей играем в морской бой и слагаем бесстыдные памфлеты о преподавателях. У Нади потрясающе циничное чувство юмора, длинные, волнистые тёмные волосы и своя роскошная квартира на «Полежаевской». Чтобы не ехать домой, за город, на такси – у меня просто нет на это денег, – я всегда остаюсь у неё ночевать после всяких рок-концертов, на которые мы с ней так любим ходить. Коротая время до рассвета и даже не думая тратить его на бессмысленный сон, мы варим пельмени, купленные в круглосуточном супермаркете на углу, щедро разбавляем чёрный кофе дорогущим отцовским коньяком, самозабвенно, не щадя соседей, распеваем песни в телевизионные пульты, используя их в качестве микрофонов, в который раз пересматриваем легендарных «Мечтателей» Бертолуччи и, разумеется, сплетничаем о ребятах с параллельного потока. Надя пишет стихи – мрачные, все о несчастной любви, – и не верит мужчинам. Я тоже пишу стихи, но они, в отличие от Надиных, очень наивны.
Каждое утро я наспех выпиваю чай, кидаю учебники в большую зелёную сумку и вылетаю из дома. Может быть, я еду в университет – а может, прогуливаю пары, прожигая время где-нибудь там, где мне никто не мешает мечтать: ищу в нашем подмосковном лесу давно исчезнувшие развалины старого деревянного санатория Академии наук, где бывали когда-то Пастернак и Цветаева и который десять лет назад сожгли, брожу по улицам с плеером, мечтая о будущем, – или прихожу на берег реки, протекающей недалеко от моего дома, и долго-долго стою и смотрю, как движется светлая, задумчивая вода, как уплывает вместе с ней время, и слушаю, как существует то, что так для меня привычно, в моменты, когда здесь никого нет. Пытаюсь научиться наконец уверенно брать аккорды на старой папиной гитаре, иногда сажусь за фортепиано, чтобы окончательно не забыть то, что умела когда-то хорошо играть, беспрестанно ссорюсь и мирюсь с мамой, по вторникам и четвергам хожу в автошколу, а по выходным – сплю до обеда, встречаюсь, кроме Нади, ещё с двумя-тремя близкими, давними подругами – и из всего этого и состоит моя вполне счастливая, ничем не примечательная для окружающих жизнь.
Читать дальше
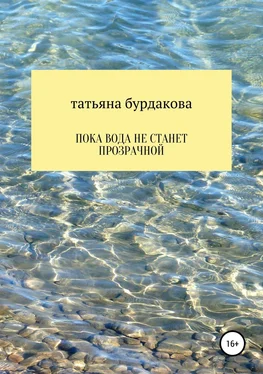



![Татьяна Корсакова - Темная вода [litres]](/books/407060/tatyana-korsakova-temnaya-voda-91-litres-thumb.webp)







