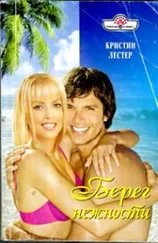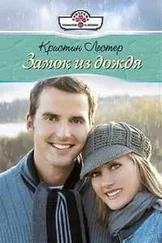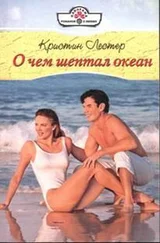— Да вы что?! На полгода!
— Ну не плачь. Приезжает э-э-э… мой сын, он хочет уладить кое-какие дела. Это может занять довольно долгое время, но, надеюсь, все закончится хорошо и как можно быстрее.
— Мадам Роше… И что, никак нельзя ничего?..
— Нет, милая, ничего. Деньги за апрель я тебе верну.
— Но он же уже начался. — Эвелин совсем растерялась. — Ну то есть… В общем, это не важно. Мне они не нужны. То есть нужны…
— Ах, перестань! Не обижайся, Эвелин, эта квартира — твоя, можешь успокоиться. Если, конечно, ты за полгода не полюбишь какую-нибудь другую и не выйдешь за нее замуж. — Мадам Роше захохотала, видимо, ей понравилась собственная шутка.
— Я никогда не выйду замуж, — с горечью заключила Эвелин.
— Ну перестань! Ну право слово! Завтра я к тебе заеду, мы еще раз все обговорим, хорошо? А теперь успокойся, не пей больше кофе, ложись спать.
— Хорошо, — сипло прошептала Эвелин.
— И перестань плакать. Ничего страшного не произошло… Ну? До завтра?
— До завтра.
Положив трубку, Эвелин с полчаса смотрела неподвижным взором в стену. Белый орнамент на обоях. Черная резная кровать. Фиолетовый пол. Еще сегодня утром все это ее восхищало и вселяло уверенность в будущем и какой-то безудержный весенний оптимизм.
Теперь цвета вдруг показались тоскливыми, холодными и мертвыми. Может оттого, что за окном начали сгущаться сумерки?
Кофе остыл. Пончик казался омерзительным, а шоколад — пластилиновым. Эвелин с тоской посмотрела в окно и в каком-то странном мазохистском порыве набрала номер Бернара:
— Алло, ты не спишь?
— Ну как можно, моя прекрасная принцесса?! Я ждал, когда ты позвонишь и объяснишь, почему прогуляла рабочий день.
— Бернар, я согласна ехать в Канаду. И как можно скорее.
— Что это вдруг?
— Какая тебе разница?! Отправляй меня, пока я не передумала! — закричала она. Напряжение вот-вот готово было прорваться наружу слезами.
— Эвелин, что с тобой? — В голосе Бернара звучала искренняя тревога. — Почему ты плачешь?
— От восторга, черт побери! — она бросила трубку.
Огни аэропорта исчезли в туманно-желтой дали. Эвелин выпрямилась в кресле и глубоко вздохнула.
Она летит в Канаду. Как такое может быть? Нет, это все сон. Когда события в жизни слишком часто сменяли друг друга, ей всегда казалось, что это происходит не с ней, а с кем-то еще.
Она с трудом и ужасом вспомнила последнюю неделю. События слились в сплошную многоцветную линию, озаренную несколькими вспышками: где-то ярче, где-то тусклее… Это напоминало новогоднюю гирлянду, состоящую из чьих-то слов, ее собственных действий, из новых лиц, из любимых улиц и незнакомых кабинетов, из содержимого ее чемодана, множества бессмысленных звонков, изощренных комплиментов Бернара, бесконечных переговоров с журналистами… В общем, это был настоящий ад.
Но самое тяжелое в этом аду было расставание с квартирой. Мадам Роше приехала в воскресенье утром и тактично объяснила, что это временная мера и что в освобождении площади нет ничего страшного. А потом так же тактично отобрала ключи и ничего не сказала о приблизительном сроке возвращения сюда Эвелин, хотя накануне обещала «подробно все обсудить». Эвелин уже ничему не удивлялась. Она только так и не смогла решить, что из двух событий разрушило и деморализовало ее сильнее: расставание с Себастьяном или расставание с квартирой?
Она на время перевезла вещи к Рене — своей довильской подруге, с которой познакомилась и подружилась на работе. Рене сама снимала жилье и отлично знала, что чувствуешь, если тебя неожиданно выставили на улицу, пусть даже и весной, когда жизнь полна оптимизма.
А в один из вечеров, разговаривая с Рене и в который раз мысленно пролистывая события минувших дней, Эвелин заметила одну странную цикличность: год назад она, когда уезжала из Нью-Йорка, тоже рассталась со своим женихом. И с командировкой получилось похоже: уезжая во Францию, она думала, что это ненадолго, максимум на полгода. А оказалось…
Кстати, и тогда, и сейчас это случилось перед днем рождения. Всегда перед днем рождения в ее жизни происходят какие-то чудовищные перемены. Хотя почему чудовищные? И чем, в сущности, какая-то Баффинова Земля хуже Довиля?..
В общем, неизвестно, на какой срок затянулась бы весенняя депрессия Эвелин, если бы не подготовка к поездке, которая одновременно пугала и успокаивала ее. Пугала потому, что Эвелин была всей душой и телом предана цивилизации, обожала ее блага и ни за что на свете не хотела «романтики дикой природы», к которой призывал ее Бернар. А успокаивала потому, что в связи со сборами грустить стало попросту некогда.
Читать дальше