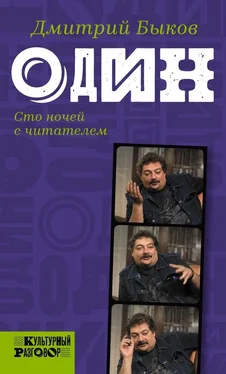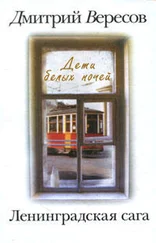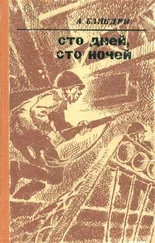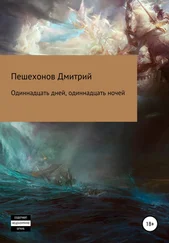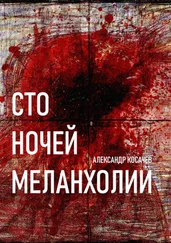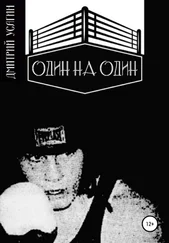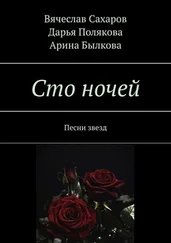И когда я это увидел в «Сталкере», мне картина показалась гораздо глубже и интереснее. Как только я увидел простую и суровую мысль Тарковского о том, что чудо может быть только рукотворным, только результатом добровольной веры, тогда мне всё величие этого фильма и вся его трагедия открылись quantum satis.
И что ещё я хочу сказать напоследок, что мне представляется в Тарковском принципиально важным. Можно отбросить высокопарность, напыщенность, длинноты, но нельзя не принять и не полюбить в нём главного – высочайшего профессионализма, железного мастерства человека, который умеет в одном кадре показать и сказать больше, чем в километрах теоретических рассуждений. У Тарковского, как и у Хуциева, кстати говоря, из кадров просто льётся счастье. Как писала Татьяна Хлоплянкина, царствие ей небесное: «Когда вы смотрите, как у Хуциева герои идут сквозь дым горящих листьев, вы чувствуете остроту молодости, свежести, счастья. Запах счастья просто хлещет на вас!» И когда вы у Тарковского смотрите на переливающиеся водоросли, на пасущихся на лугу коней, на дождь, который, как нить, связывает небо с землёй, как жизнь идёт между этих двух начал, – вы испытываете счастье. А искусство и должно давать счастье, потому что в этом его главная задача.
[10.06.16]
Что касается темы лекции, то с редким единодушием все проголосовали за Куприна. Мы должны поговорить об этом выдающемся авторе, незаслуженно остающемся в тени Горького, Андреева, и особенно Бунина, а ведь он ему совершенно равен.
Начну с вопросов.
Постоянный слушатель просит сказать несколько слов о стихотворении Марины Цветаевой «Германии»:
– Такая безоглядная искренность, нежелание, неспособность подстраиваться под общее мнение – может быть, это и есть то самое, что отличает гения?
– Нет. Слишком было бы легко. Понимаете, конечно, это черта серьёзного характера, и независимости, и, пожалуй, даже некоторой одиозности, рискну сказать, – всегда противостоять общему мнению. Когда Лимонов в девяностые годы объявлял себя фашистом, это вызывало у меня скорее уважение, потому что это он своих молодых учил нонконформизму, тренировал. Но неизменно, вечно, любой ценой быть поперёк здравого смысла – это не всегда хорошо.
Иной вопрос, что стихотворение Цветаевой «Германии» имеет прямую задачу – сбить накал германофобской истерики. И тут она печатает абсолютно германофильское стихотворение. Это очень принципиальный жест. Вы знаете, что в это время происходят германские погромы в Петербурге – громят немецкие магазины, обрусевших немцев, которые уж ни сном ни духом не виноваты в войне. Всеобщая истерика. А Цветаева заявляет о своей германофильской позиции.
Я, кстати говоря, не думаю, что Цветаева была такой уж последовательной германофилкой. Во всяком случае, она видела и понимала корни немецкого фашизма, которые стали уже очевидны в тридцатые годы. Германофильство Цветаевой имеет не слепой характер. Она всё про Германию понимает. Но она чувствует себя героиней Гёте, последовательницей Гёте; она отстаивает, пытается отстаивать Германию настоящую. И это, конечно, жест превосходный. Другое дело, что, когда она писала «Стихи к Чехии», от её Германии, от прежней, уже ничего не осталось, и она тем больнее воспринимала происходящее.
Вообще, когда кого-то травят, возвысить голос для поэта необходимо, это такая особенность поэтической участи. Я вам больше скажу. Цветаева в моём любимом тексте, который по первой строчке называется «Милые дети!», для русского журнала детского во Франции пишет: «…Если видите человека в смешном положении… прыгайте в него к нему как в воду, вдвоём глупое положение делится пополам: по половинке на каждого». Вот она действительно всегда прыгает к тому, кто в отчаянии, кто на дне, кто в травле. И это принципиальная, очень высокая и истинно поэтическая позиция.
– С удовольствием пересмотрел фильм «Испытательный срок» по повести Павла Нилина. Там были интересные милицейские стажёры-антиподы. Один из них – добрый. Второй жестоко карает. Мне кажется, этот сюжет подтолкнул Вайнеров к созданию типажей для «Эры милосердия».
– Ну, я не задумывался об этом, но одно могу сказать: конечно, Нилин для шестидесятых-семидесятых годов, когда формировались и входили в славу Вайнеры, был одним из ключевых писателей. Но проблема, строго говоря, доверия и недоверия, жестокости и понимания гораздо более наглядно поставлена не в «Испытательном сроке», хотя это хороший фильм, и повесть неплохая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу