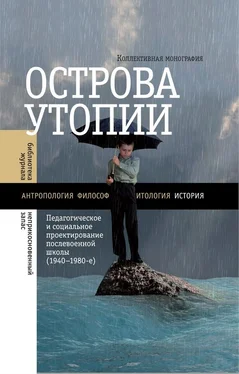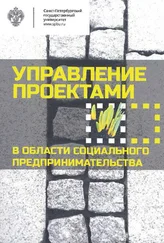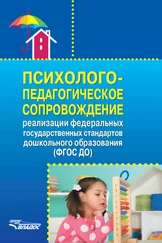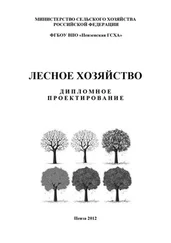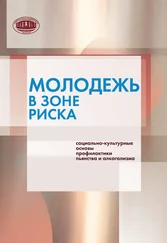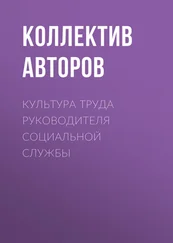Который параллельно успел сняться еще и у Козинцева с Траубергом в трилогии о Максиме, и в «Минине и Пожарском» у Пудовкина и Доллера.
Об улучшении дела подготовки учителей: Постановление СНК СССР № 2088 от 20 августа 1945 г. // Народное образование. Основные постановления, приказы и инструкции. М.: Учпедгиз, 1948. С. 375 – 376.
Помимо этого, в декабре того же, 1945, года вышел приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР и НКП РСФСР «О заочном обучении учителей», направленный на увеличение сроков и повышение качества учительского образования. См.: О заочном обучении учителей: Из Приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР и НКП РСФСР № 823/628 от 19 декабря 1945 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сб. док. 1917 – 1973. М.: Педагогика, 1974. С. 437 – 438.
Он отсылает к традиции фильма не просто производственного, но «комсомольско– или молодежно-производственного» (наподобие «Богатой невесты» (1937) того же Ивана Пырьева или «Волги, Волги» (1938) и «Светлого пути» (1940) Григория Александрова).
«Учитель», «Сельская учительница».
«Учитель», «Весенний поток», да, собственно, и «Сельская учительница», хотя и в несколько своеобразной форме.
«Красный галстук» (1948) Марии Сауц и Владимира Сухобокова, «Первоклассница» (1948) Ильи Фрэза, «Аттестат зрелости» (1954) Татьяны Лукашевич и все тот же «Весенний поток».
Именно этот, инициационный аспект взяла за основу сквозного анализа советского школьного кино Любовь Аркус в статье «Приключения белой вороны: Эволюция “школьного фильма” в советском кино», вышедшей в блоговом разделе на сайте журнала «Сеанс» 2 июня 2010 года (http://seance.ru/blog/whitecrow/, текст подготовлен на базе лекции, прочитанной Л. Аркус 27 апреля того же года).
Не менее характерно, что как раз семьи в «Первокласснице» не принимают в спасении трех заблудившихся девочек практически никакого участия.
Подробнее об этом композиционном приеме см.: Михайлин В., Беляева Г . Политический плакат: рамки восприятия и воздействия // Неприкосновенный запас. 2012. № 1 (81). С. 38 – 58.
Этот сюжет прекрасно согласуется с логикой исследовательской модели, предложенной Олегом Лейбовичем в книге «В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции» (М.: РОССПЭН, 2008). Одной из составляющих концепции книги является тезис о самоопределении и начинающейся эмансипации советской номенклатуры еще в позднесталинские годы. Стремление к бытовому комфорту и к отступлению на практике от большевистского коллективизма и аскетизма (при сохранении соответствующей риторики) было одной из составляющих этого процесса.
Апофеоз благолепия в «Сельской учительнице» – письмо, полученное Варварой Васильевной от одного из бывших учеников, который оказался на Колыме (без объяснения причин). «Дорогая Варвара Васильевна! Пишу Вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Здесь все молодежь…»
См.: Ассман Я . Культурная память. М.: Языки славянской культуры, 2004.
«Былые озорники хотели видеть себя описанными в хотя и “скучных”, но вполне безопасных категориях» ( Добренко Е . Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 328).
Подробно об этом см. в статье Александра Эткинда «“Одно время я колебался, не анархист ли я”: субъективность, автобиография и горячая память революции», опубликованной в: Новое литературное обозрение. 2005. № 73. http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/etk2.html.
Следует отдельно оговорить близость ряда наших позиций в отношении общей природы «оттепели» как властного проекта, осуществленного в интересах советских элит, к тем, что были представлены в книге Александра Прохорова «Унаследованный дискурс» (СПб.: Академический проект, 2007).
Анализируя киноязык времен «оттепели», Александр Прохоров пишет об «искренности» и «поэтичности» нового советского кино, которые, с точки зрения М. Туровской и Н. Зоркой, обозначали «растущий интерес к миру отдельной личности, частной непубличной сфере жизни, а также индивидуальный поиск утерянной чистоты революционных идеалов, веру в то, что эти идеалы когда-то существовали, но были преданы в сталинские времена» ( Прохоров А . Унаследованный дискурс. С. 31 – 32, со ссылкой на: Зоркая Н . Портреты. М.: Искусство, 1966; Туровская М . «Да» и «нет». М.: Искусство, 1966). Однако автор сосредоточивает свое внимание прежде всего на стилистических различиях между «оттепельным» кино и кинематографом сталинского «большого стиля»; манипулятивная и мобилизационная природа «оттепельного» концепта «искренности» остается вне сферы его интересов.
Читать дальше