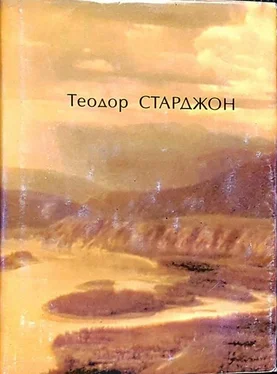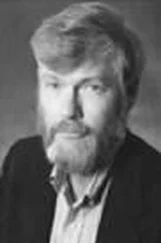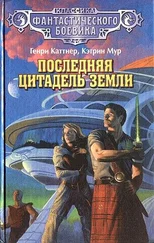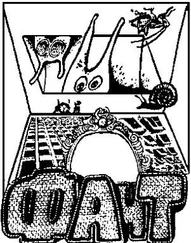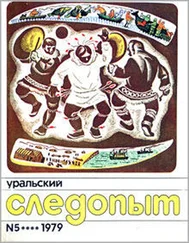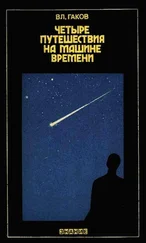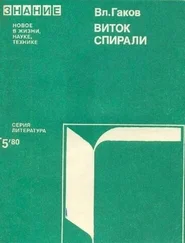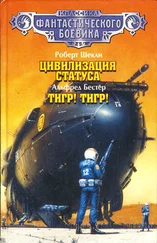Для внутренней научно-фантастической «тусовки», которую даже вполне лояльные к ней писатели и фэны нет-нет, да и обзовут «литературным гетто», он всегда оставался немного более изысканным, многословным и психологичным, чем полагалось написанными законами рынка типичному автору science fiction; и менее, что ли, прямолинейным, «сюжетным», динамичным. Для мира общелитературного потока (mainstream) – чуть более фантастичным, парадоксальным и во всех отношениях немодным. Читатели и критики старшего поколения находили его темы слишком шокирующим и неприличным, на грани эпатажа. А вполне «отвязанная» современная молодежь, напротив, с трудом врубалась, о каких там «чувствах» и «душевных привязанностях» пишет эта сентиментальная старая перечница.
В мире хитов и бестселлеров таким авторам стать звездой, последним писком моды, понятное дело, не грозит. Остается традиционное – стать властителем дум, но это требует времени.
Вновь слово Эллисону:
«Для кого-то он был святотатством на грани непристойного фаллического символа, вроде единорога в райском саду. Для других – расточительным гением, около десятка лет занимавшего первые строчки в списках самых блистательных писателей нашей страны – независимо от того, к какой категории отнести его творчество (хотя бы и к «литературному гетто»). Для молодых писателей он стал своего рода иконой; для стариков, живых свидетелей его непутевой, не вписавшейся ни в какие рамки жизни, – олицетворял собой несбывшиеся грезы. Не корите меня за то, что я пишу эти, не свойственные жанру некролога слова: он любил выслушивать правду, как она есть. И не желал бы, чтобы о нем вспоминали, стыдливо опуская такие детали, как хромоту, многочисленные бородавки и тот отвратительный запах крепкого трубочного табака, которым он, казалось, пропах насквозь.»
Короче, хватит прелюдий. Читателю, надеюсь, ясно, что разговор наш пойдет о настоящем писателе. Который вызывает интерес и спустя годы, а не только в тот короткий промежуток времени, пока его последнюю книгу не потеснил чей-то свежеиспеченный «хит».
* * *
«Немного найдется писателей, чья собственная жизнь стала таким же произведением искусства, как и их литература. Он вовсе не был мифическим существом; скорее – легендарным. Там, где ступал он, всегда возникало завихрение воздуха.» (Из уже цитированного некролога.)
Начать с того, что родился он никаким не Теодором Старджоном! Когда в семье бизнесмена Эдварда Уолдо, торговавшего красками, смазочными материалами и прочими нефтепродуктами на Стейтен-Айленде – одном из главных островов, на которых расположен нынешний Большой Нью-Йорк, – появился на свет второй сынишка, мальчика в честь отца назвали Эдвардом Хэмилтоном. Произошло это 26 февраля 1918 года.
Почему и как он впоследствие стал именоваться Теодором Старджоном (правильнее было бы произносить Стёрджон, ну да поздно что-либо менять – прижилось...), – об этом чуть поз— же, а пока несколько слов о «корнях» и «почве»; в творчестве всякого художника они рано или поздно, да проявятся. Иначе говоря, речь пойдет о родителях и годах детства Эдварда Хэмилтона Уолдо.
Отец его вел род от французских и голландских первопоселенцев, отправившихся искать счастья в Новый Свет еще в XVII веке. Трудно сказать, как бы сложилась судьба будущего писателя, если бы отец вскоре не бросил семью; мальчику тогда не исполнилось и шести лет. Фактически, главную роль в его воспитании всегда играла мать – Кристин Дикер, предки которой обосновались в «английской» Канаде. Она сама писала любительские пьесы, сочиняла стихи, рисовала и преподавала литературу в школе. Очевидно, что всеми своими художественными пристрастиями будущий «Теодор Старджон» всецело обязан ей.
А вторым обстоятельством, во многом определившим бунтарский, иконоборческий характер его сочинений, стала религия. Точнее... определенный «перебор» ее в семейной генеалогии. Мальчику словно на роду было написано принять церковный сан: со стороны отца – восемь священнослужителей различных рангов [1] Среди них — двоюродный дед (архиепископ аж всей голландской Вест-Индии!), прадед (архиепископ Квебека), дядя (священник на острове Ньюфаундленд). — Здесь и далее — примечания автора.
; да и тетка по материнской линии также была замужем за английским священником! Будешь тут сыт «культом» по горло...
Как бы то ни было, до 12-летнего возраста Эдвард вместе со старшим братом Питером регулярно посещали воскресную церковную службу. Правда, частенько им удавалось отлынивать, пользуясь родительской привычкой вставать поздно по выходным. Братья предпочитали проводить время за чтением юмористического журнала, а к вечеру сочиняли более или менее правдоподобную «легенду» о том, что происходило на утренней проповеди.
Читать дальше