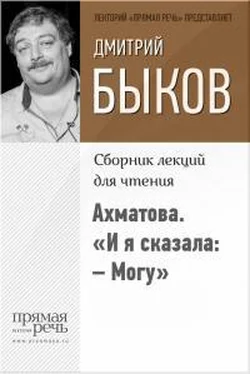Мандельштам, когда сочинял «Стихи о неизвестном солдате», говорил, что все время видит Сталина на трибуне перед какими-то бесконечными буграми – то ли это бугры голов, то ли это бугры могил. Это, в общем, одно и то же, по большому счету. «Стихи о неизвестном солдате» – это действительно страшный праздник земли, земля, которая забивается в рот говорящему, на каждом шагу уже эта земля. Понятно, что расплатой за такой невроз нации может стать только война, только она это все искупит. Почему на этот раз все трое предчувствуют войну, причем мировую – Ахматова, Пастернак, Мандельштам? Потому что она одна единственная, что может это искупить, она может все списать. И война в самом деле все спишет. Нужно сказать, что Ахматовой в ее обычном облике очень присуща загадочность. Как справедливо замечает Кушнер, всякий раз, как у нее в стихах нужен четырехсложный эпитет, она щедрой рукой вставляет слово «таинственный». Да, конечно, но ведь благодаря этому чувству тайны в ахматовской поэзии всегда присутствует интересность. Как бы мы к Ахматовой ни относились, но Ахматова – это всегда интересно, это всегда увлекательно. В первую очередь потому, что Ахматова прекрасно умеет выстроить сюжет триллера. Помните ее знаменитую элегию из цикла «Северных элегий» «В том доме было очень страшно жить»? Это классический триллер, это можно экранизировать.
Мне какое-то время случается сейчас (слава Богу, это скоро закончится) жить одному в маленькой американской квартирке в кампусе. Я вообще не очень люблю жить один, но, к сожалению, всех вас с собой туда не возьмешь, и даже близкие родственники должны в это время где-то работать, пока я работаю там. Я очень часто вспоминаю, проходя по комнате ночью, просто заработавшись и ложась спать, – вспоминаю ахматовские строчки: «В то время, как мы, замолчав, старались // Не видеть, что творится в зазеркалье». Очень страшно в пустой комнате заглядывать в зеркало, потому что не знаешь, что ты там увидишь, особенно ночью, особенно когда ты сильно разгорячен писанием и нервы твои на пределе. То есть ты можешь там увидеть что-нибудь не то, а можешь ничего не увидеть – это было бы самым страшным. Там же есть еще замечательные строки:
«Теперь ты там, где знают все – скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?»
Ты видишь эти огромные глаза, а у страха глаза велики, выпученные глаза ужаса. Здесь Ахматова очень сильна. К числу ее выдающихся достоинств, к ее «могу» принадлежит и умение пугать читателя. Сложное владение поэтическим арсеналом, владение всей поэтической фабулой – это, безусловно, сильнейшая ее черта. Ахматова умеет писать страшные стихи, а страх – это далеко не последняя эмоция.
Ахматовой пришлось пережить на самом деле то, что для поэзии часто оказывается смертельно.
«Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов».
Это чувство, которое владеет так или иначе всеми людьми, которым выпало жить на историческом переломе. Есть такие счастливцы, которым исторический перелом не выпал. Они так и живут всю жизнь, полагая, что живут в обычном трехмерном мире. Но мы-то с вами несколько раз уже на протяжении нашей жизни видели, как изнанка жизни чуть завернулась, и стало немножко видно. Например, часто приходится вспоминать слова Бродского, лучшего ученика Ахматовой:
«Я бы втайне был счастлив, шепча про себя: "Смотри,
Это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
То, на что ты так долго глядел снаружи;
Запоминай же подробности, восклицая "Vive la Patrie!"»
У нас сегодня действительно есть удивительный шанс, восклицая «Vive la Patrie!», увидать изнанку, посмотреть изнутри на понятие родины. Мы сегодня видим, до каких бездн падения может докатиться страна, которой нравится эта бездна падения, которая по-достоевски сладострастно в нее погружается, которая радостно расчесывает свои струпья, которая купается в гное. Это приятно, интересно, в этом есть даже какой-то момент эротического раскрепощения. И вот в эти времена наше величайшее утешение – Ахматова. Нам подменили жизнь, мы не могли бы представить еще два года назад себя нынешних, которые опасаются сказать слово. У нас появилось больше страхов, больше самоограничений, больше глупости, которую мы лелеем, надеясь, что, может быть, нас за нее пощадят. Мы впервые в тех временах, когда деградация воспринимается как спасение, как надежда, как признак, что, может быть, нас не тронут. Это нормально, более того, многие люди в 30-е годы так себя чувствовали, и никто не верил в происходящее. Я боюсь, что единственным противоядием от этого является ахматовское «могу». Да, ахматовское достоинство нас раздражает, но, к сожалению, когда массовая утрата достоинства становится единственным трендом, единственным ответом на этот тренд становится несколько самоцельное сохранение этого достоинства, некая королевственность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу