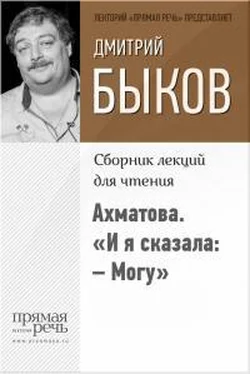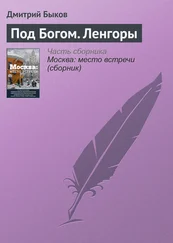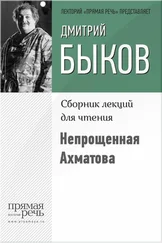Недавно, когда кто-то из моих ребят меня спросил, в чем мне видится главная заслуга Битова, почему я считаю его крупным писателем, я задумался. Ведь я всю жизнь говорил и писал, что Битов дает своему читателю очень много оснований для самоуважения: вот я прочитал такой сложный текст ни о чем, поэтому я молодец. Но дело в том, что в эпоху, когда в основном работал Битов, 70-80-е, достоинство у человека утрачивалось стремительно, во всяком случае очень многими. Поэтому желание уважать себя – это уже было не самое плохое.
Да, Ахматова дает читателю основания уважать себя, но это не худшее, что можно сделать с читателем. Поэтому ее великолепное достоинство, ее гордость, ее самомнение, ее трагедия должны нам сегодня послужить великим утешением и уроком. Если бы еще хоть кто-то в русской поэзии так же, как Ахматова, умел до конца пережить унижение и сделать из него победу, очень может быть, что и с русскими людьми можно было бы сделать не все. А это и есть главная поэтическая задача – воспитать такого читателя, с которым можно сделать не все. Это то, что я собирался сказать, а если у вас есть какие-то идеи, то, конечно, давайте.
– Добрый вечер! Простите сразу за скучный вопрос. А кто ближе вам – Ахматова или Цветаева? Кого вы считаете сильнее?
– Сильнее, конечно, Цветаева. Но я не считаю силу такой уж абсолютной добродетелью. У меня есть ответ на этот вопрос, абсолютно четкий. Мне ближе Ахматова – ближе и по манере, и по тону, и по задачам, которые она ставит. Более того, я не претендую на цветаевскую «всеохватность». Но Цветаева в своей этой «всеохватности» очень часто уходит за грань вкуса. Ну что там, все свои: когда мы читаем: «Коммерческими шашнями и бальным порошком…» – этот «и бальный порошок» не режет нам слух, и даже, может быть, мы думаем, что так и надо. Или когда мы читаем: «Черной ни днесь, ни впредь // Не заткну дыры». Но при этом у Цветаевой безвкусица в ином – не в конкретностях, не в частностях, а в некоторой истерии. Конечно, можно любить или не любить Ходасевича, но в этом он прав.
Ахматова иногда безумно раздражает, но это раздражение – тоже эмоция высокого порядка. Пока поэт раздражает, он живой. Цветаева не раздражает, Цветаеву все время жаль, мы все время сострадаем этой судьбе, мы помним об ужасе этой судьбы. Нас всегда восхищает ее высокое самомнение поэта, то, что Мандельштам говорил: «Я съел вашу кашу, потому что поэту она нужнее». Это может восхищать, но иногда это раздражает. Но в Ахматовой очень многое и умиляет, как ни странно. «Королевственность» эта – нормальный ответ на унижение. Вот, например, Чуковская (не самый мой любимый персонаж, но очень меня восхищающий, такое бывает) приносит ей, чтобы ее развеселить, стихотворение Сергея Васильева (чудовищный совершенно поэт, не путать с Аркадием Васильевым, отцом Донцовой, тоже чудовищным персонажем). Сергей Васильев – автор антисемитской поэмы «Без кого на Руси жить хорошо». Она приносит Ахматовой почитать его стихотворения о том, как они с Прокофьевым голыми купались в Ангаре.
«– Режь,
Сережа,
бога нету!
– Режу,
Саня,
как ножом!
Хорошо бороть стихию,
бога нету, нагишом!»
Ахматова выслушивает это и говорит: «Он написал стихи об обнаженном Прокофьеве? И вы осмелились мне это читать?!» Особенно если представить себе обнаженного Прокофьева, шарообразного. Но дело даже не в этом, Бог с ним, толстые люди имеют право на жизнь, но просто не надо писать стихи об обнаженном Прокофьеве. Ответом на безобразие всякое, на всякие бесчинства служит такая ахматовская позиция, и я очень это люблю.
– А разве эстрадная поэзия не с Северянина началась?
– Нет. Северянин появился позже и настоящим королем эстрады он стал, когда состоялся этот контекст. Порядок появления был такой: Маяковский, Ахматова, Северянин, Вертинский. Маяковский вообще стал королем эстрады очень рано, причем он разработал гениальный план. Еще никакого Северянина не было в помине, настоящие его концерты начинаются с 1913–1914 годов. И такой маркер, символ эстрадной славы, эстрадного счастья – это Сонька Шамардина. Когда Сонька Шамардина ушла от Маяковского к Северянину, тут как бы слава переместилась. На самом деле триумф Северянина пришелся на 1913–1914 годы, а Маяковский начал скандалить на эстраде еще в 1912-м, 19-летним, со своих поездок с Бурлюком. В 1913 году уже о нем начал писать Чуковский, который очень хорошо понимал в эстраде. У них был разработан замечательный план. Сначала Чуковский читал лекцию о футуристах, в которой немного поругивал Маяковского, мол, зачем эта желтая кофта. Тогда в желтой кофте поднимался Маяковский из задних рядов и начинал очень убедительно громить Чуковского: «Все эти Чуковские, эти Измайловы, которые идут у нас в обозе, которые примазались к нашей славе, которые клеят на нас ярлычишки из прошлого, тогда как мы люди из будущего!» И никто не знал, что желтая кофта пронесена внутрь Политехнического Чуковским и само это выступление между ними давно оговорено. Маяковского в кофте не пускали, Чуковский мирно ее проносил, потом на лестнице ему передавали, потом выходил Маяк – башли пополам. Все, включая «башли пополам», – это абсолютно правильный подход к эстрадному скандалу. Другое дело, что однажды этот номер не сплясал, что называется, потому что именно после этого выступления (уже это было в Петербурге) Чуковский Соньке Шамардиной, за которой он тогда ухлестывал, сказал: «Я вам покажу живого Маяковского». И после того, как она увидела живого Маяковского, Чуковский перестал ее интересовать немедленно. Чуковский понуро ей сказал: «Ну конечно, критик всегда проигрывает поэту». А Маяковскому он перед этим сказал: «Владимир Владимирович, с этой девушкой осторожней, я знаком с ее родителями». Но тем не менее Маяковский не был особенно осторожен, он принялся ею овладевать непосредственно в пролетке, видя, как она на него смотрит. Она заколотила в спину извозчику, соскочила, и только после этого он смирился, поняв, что девушка решительная и штурм не пройдет. Я все это рассказываю для того, чтобы как-то пояснить эстрадность всей природы происходящего тогда в искусстве. Эстрадность не плоха, потому что, во-первых, действительно, поэзия становится частью жизни. Во-вторых, во всем мире поэзия становилась эстрадной. Почему-то, когда Карл Сэндберг пел свои стихи в Чикаго под гитару и выпускал тогда же записи их, с 30-х по 50-е годы, это не воспринималось в Америке как сенсация. Да, приехал Сэндберг, поиграл на гитаре, попел. Когда у нас вышел с гитарой Окуджава, все заговорили: «Осторожно: пошлость!» Ну что такого? Поэзия всегда жила на эстраде, французский шансон вывел ее туда. Гастон Монтегюс, между прочим, был любимым поэтом Ленина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу