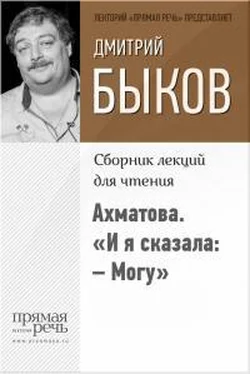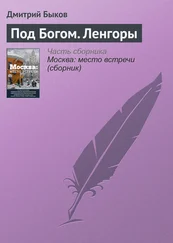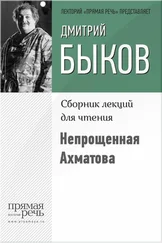Даже за одну строчку – «на пустынном прилавке заката», которая сразу открывает огромный восточный базар вечером, усталое торжество, невероятные арбузные, гранатовые разрезы на прилавках, сразу ты видишь этот увядающий вечерний базар, – за одну эту строчку уже акмеизму можно было бы все простить. Конечно, Матвеева акмеист. Владимир Новиков, большой наш общий друг с Гариком Кохановским, когда-то говорил: «Корни матвеевской поэзии не очевидны». Они еще как очевидны, просто считается, что Матвеева – наследница Венедикта Марта, своего дяди, футуриста, а на самом деле она наследница акмеизма, она оттуда пришла. И, может быть, именно этим объясняется ахматовская ревность к ней, потому что Ахматова очень ее горячо невзлюбила. Она прочитала ее первые стихи и сказала: «Да, это очень хорошо, и все-таки поэт не должен говорить о себе «я зайчик». «Я зайчик солнечный, дрожащий». Но надо же помнить, в каком контексте это сказано, и этот «зайчик» – это гораздо более мужественное стихотворение, чем некоторые последние сочинения Анны Андреевны. Новелла Николаевна – это ого-го! Я цитирую данное мне ею в качестве мантры в армию абсолютно акмеистическое четверостишие:
«Вот тебе, гадина,
Вот тебе, гадюка,
Вот тебе за Гайдна,
Вот тебе за Глюка!»
Шедевр, да? Это она мне перед армией сказала: «Считайте, что это я вам передаю мантру». Много раз меня выручали эти четыре строчки
– Спасибо вам большое за лекцию. Иосиф Бродский был любимым учеником Анны Ахматовой. Но Бродский первым поэтом ХХ века считал Марину Цветаеву. Расскажите немного об этом. И, вы знаете, они же встречались всего два раза с Мариной Цветаевой. Скажите, как складывались их отношения?
– Они складывались плохо, иначе складываться не могли. Как любил говорить Пастернак, «поэты – как красавицы, они всегда друг друга ревнуют, поэты дружат редко». Конечно, отношения были плохие, других быть не могло. Представьте себе Ахматову и Цветаеву, которые разговаривают о чем-то или вместе, например, посещают магазин. Это же немыслимо представить! Или представьте себе Пастернака и Мандельштама, которые выпивают. Оба любили выпить. Это у Мандельштама:
«Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.
Человек бывает старым,
А барашек молодым».
Оба любили Грузию и оба выпивали поврозь с Паоло Яшвили, например, или с Григолом Робакидзе, или с Тицианом Табидзе. Но представьте себе Ахматову и Цветаеву, разговаривающих о пустяках! Когда-то я крупнейшего специалиста по Прусту, одного ирландца, в Дублине спросил: «Правда ли, что Пруст и Джойс однажды встретились?» Он ответил: «Да, в 1922 году. Разговор о литературе у них не задался, они три часа проговорили о катаре желудка, от которого оба очень страдали, с величайшим интересом». Вот об этом они могли говорить, эти темы их волновали. А представьте, Пруст говорит: «А неплохо у вас, Джеймс, пущено в «Дублинцах». А тот: «Да у вас тоже в третьем томе ничего так». Проблема в том, что, к сожалению, поэты очень редко разговаривают. Что касается Бродского, он не был учеником Ахматовой, Бродский учился у Ахматовой другому – учился себя вести, и это очень правильно. Учениками Ахматовой являются, наверное, Мария Петровых в русской поэзии, немного Арсений Тарковский, формальным учеником, тоже значимое слово – сюжетные стихи, эстетика страшного. Я, между прочим, считаю Тарковского большим поэтом. У меня был период охлаждения к нему, но я считаю, что Арсений Тарковский – поэт великолепный. Знаете, сколько я из него наизусть знаю? Если я сейчас начну читать, мы до утра не разойдемся. Очень крупный поэт, у него есть абсолютно ахматовские стихи, их очень много. Помните знаменитое стихотворение из «Зеркала»?
«Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.
Ни словом унять, ни платком утереть…»
Он и читает немного по-ахматовски, хотя слегка задыхаясь, но все равно чувствуется ахматовская великолепная тяжеловесность. Вот он ученик, а что касается Бродского, то он ученик Слуцкого, ученик советской поэзии, которая очень сильно на него повлияла, и английских метафизиков, которые тоже повлияли в свой черед. Ахматовского влияния у него нет никакого, кроме влияния позы. Ахматова помнила две цитаты – фразу Пунина «главное – не терять отчаяния» и фразу Бродского «главное – величие замысла». Это она любила, это были синонимы для нее. А сказать, чтобы он от нее что-то перенял… Бродский, как и она, был очень эстрадный человек. Именно эстрадные соображения заставили его написать плохое стихотворение «На независимость Украины», абсолютно эстрадный текст, который сохранился только в его чтении, он и написал для эстрады. Я думаю, что Захар Прилепин еще сделает из него рэп, он сейчас этим увлекся. Это эстрада чистая, и именно эстрада очень часто заставляла Бродского делать какие-то вещи. Он вел себя очень эстрадным образом. Мне кажется, что с точки зрения эстрады лучше было все время говорить, что Цветаева лучше, это было лучше для биографии, потому что Цветаева – это более престижная родословная, более престижный генезис. Об этом же сама Ахматова очень хорошо сказала. Однажды она сидела с Найманом на берегу залива в Комарово, проехал мимо молодой человек, спросил Наймана: «Простите, вы Бродский?» Тот ответил, что нет. Молодой человек ушел разочарованный. Ахматова сказала: «Ему казалось симметричнее, чтобы с Ахматовой сидел Бродский». Это действительно так. Бродскому казалось симметричнее, чтобы он произошел от Цветаевой. Хотя от Цветаевой у него тоже ничего нет абсолютно, кроме анжамбеманов, но анжамбеманов не было только у ленивого. А Анна Андреевна научила его «королевиться» и говорить: «Пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». И всегда говорить немного в нос, и после каждого слова спрашивать: «Не правда ли?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу