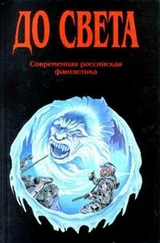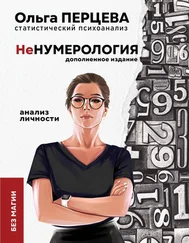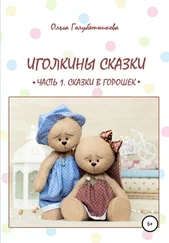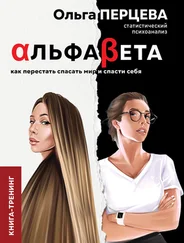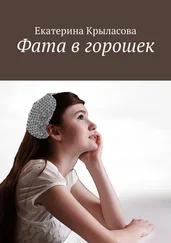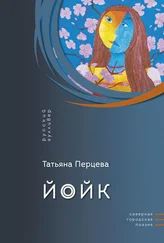Я росла очень болезненным ребенком, поэтому мама выходила на работу только в самые трудные в материальном отношении времена и не сделала деловой карьеры. Но она обеспечивала, как принято говорить, тылы сначала папе, потом мне. А работу брала сдельную, на дом. Чертила огромные чертежи на ватмане или снимала копии на кальке. Тогда ходить по комнате надо было очень осторожно, чтобы не смазать чертеж или, упаси господи, задеть пузырек с тушью и залить работу. А как мама берегла свои инструменты: еще дореволюционный рейсфедер, разные перья и ручки! Хорошие готовальни были дороги, а доступные не отличались качеством.
И еще запомнилось, как мама любила стихи и знала наизусть целые поэмы. У них с бабушкой была знакомая Клавдия Давыдовна Хорст. Мы навещали ее на улице Гоголя. Клавдия Давыдовна была в курсе всех театральных и литературных событий. У нее собирались любители поэзии и прозы, она знала всех знаменитых артистов и в числе первых читала новые книги. Бывало, что и книг таких в Ташкенте не достать, а у Клавдии Давыдовны можно переписать понравившиеся стихи или отрывки. У мамы была толстая тетрадь, куда она переписывала самое любимое. Эта тетрадь передавалась ее подругам, переходила из рук в руки, как потом у нас — магнитофонные пленки с записями Окуджавы и Высоцкого.
Моя любящая все прекрасное мама была идеалисткой и часто не вписывалась в советскую реальность. За пределами дома ей не хватало пробивной способности, практичности и настойчивости. Но она умела самое убогое жилище сделать родным и уютным: развесить фотографии и картинки по стенам, выкрасить акрихином марлю и сшить симпатичные занавески, повесить вместо недоступно дорогого ковра обивочную ткань с похожим рисунком. И даже потом, когда жизнь в материальном плане устоялась и в доме воцарился достаток, вспоминалось тепло тогдашнего маминого уюта.
Сиротами называют детей, рано потерявших родителей. Мне было много лет, когда умерла мама, но я сразу ощутила себя осиротевшей.
Насиба, мама Улугбека Шаматова
В конце 1922 года прямо под Новый год 31 декабря в селе Хумсан в семье мельника Назара у его жены Умарджон родилась дочка Насиба. О деде я знаю очень мало. Мой племянник раскопал, что дед вел свой род от знаменитого шейха Ан Тахира, или просторечии Шейхантаура (кстати, так зовется одно из мест в Ташкенте), но это неточно, я не знаю, какими источниками пользовался племянник. Достоверно известно, что земли, на которых расположены села Каранкуль, Чарвак, Хумсан, принадлежали его семье. Были слухи, что образование он получил за границей, во Франции, еще до Первой Мировой войны, а возможно, и во время войны. Видимо, по этой причине он поздно женился, и не на юной девушке. Бабушка была 1898 года рождения и вышла замуж где-то в 1918—1919 годах, то есть ей уже было 21—22 года, что по меркам того времени уже едва ли не возраст старой девы. Бабушка сама родом из села Нанай, и, помимо узбекской, в ней текла большая доля таджикской крови. Из обрывков разговоров родственников старшего поколения я понял, что дед в силу образования и прогрессивных идей понял, что революция — это всерьез и надолго, и при установлении советской власти добровольно отказался от всех земель, скота и инвентаря, принадлежавших семье. Чтобы кормить семью, он на маленькой речке — притоке Угама, что напротив санатория 84-го завода «Кристалл», выстроил водяную мельницу и зарабатывал на жизнь помолом зерна. Видимо, полученное образование было с инженерным уклоном. Мельница давала достаточно средств, чтобы кормить семью, и не требовала большого ежедневного труда, поэтому его любимым занятием была охота в горах. Дед был высокого роста, где-то около 185—190 см, и запросто ходил на кабана с одним кинжалом. В детстве мне говорили, что я ростом пошел в деда. Но, как говорится, за забором любого благополучия всегда подстерегает беда. В 1926 году у них с бабушкой родился сын Далавой. И вот когда сыну исполнилось три года, а моей маме — девять лет, в период всеобщей коллективизации и борьбы с кулаками в дом постучалась беда: зимой 1929 года деда арестовали, а жену с детьми выгнали из дома, дав полчаса на сборы. Мама рассказывала, что это было паническое бегство, им не дали взять с собой никаких теплых вещей, и в галошах на босу ногу они бежали не останавливаясь до Бостанлыка — нынешнего Газалкента. Почти 25 км по горной местности, по снегу. Бабушке тайком удалось унести в узелке только свадебные украшения, подаренные мужем. Серьги, кольца и «тилля-кош» — золотую корону невесты, обычно весом от 250 до 400 грамм чистого золота, украшенную драгоценными камнями и бирюзой. Эти украшения потом спасли жизнь ей и маленьким детям в голодное время 1930—1931 годов. В Бостанлыке их приютила какая-то семья, в которой они прожили около месяца. Потом пришел местный милиционер и предупредил, что их как семью врага народа разыскивают. И вновь пришлось бежать уже в пригородное село у Ташкента, поселок Ялангач, нынешний Кибрай. Там им удалось как-то устроиться. Деда осудили на пять лет и на десять лет поражения в правах и отправили в Сибирь. Он вернулся только в 1934 году, разыскал семью, но устроиться на работу, соответствующую его знаниям и образованию, не мог. Он работал, но кем и где, я не знаю, скорее всего, чернорабочим, а может быть поденно. После возвращения деда бабушка устроилась работать в пекарню санатория «Ореховая роща». В 1937 году деда вновь арестовали, он просидел два года в ташкентской тюрьме, пока шло следствие. Под кампанию борьбы с ежовщиной его признали невиновным и освободили в конце 1939 года. Но здоровье он потерял окончательно. Долго болел и умер то ли в 1948-м, то ли в 1949 году. Но пока не рухнула советская власть, мне об этом ничего не говорили.
Читать дальше
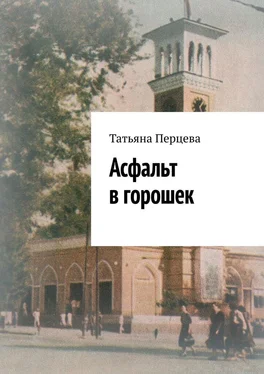


![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)