Однако не освоение предметов вспоминала мама, а кружки. Вечерами, когда преподаватели точных наук уходили домой, школа вновь заполнялась учениками. Тут уж делились по интересам. Одни пели в хоре, другие готовились к гимнастическим упражнениям для выступления на парадах, третьи репетировали «Разлом», с которым выходили даже на городскую сцену. В моде была «Синяя блуза» — высмеивались всякие недостатки, пели юмористические куплеты. До поздней ночи занимались абсолютно бесплатно учителя пения, литературы, физкультуры и талантливая руководительница драматического кружка, ставившая великолепные спектакли, подвижница, имени которой я, к сожалению, не знаю. Мама обожала литературу. В литературном кружке устраивались суды над героями классических произведений. Например, суд над Раскольниковым. Ученики делились на обвинителей и защитников и выносили вердикт: виновен или не виновен. А судья, разумеется, преподаватель. Ну и, конечно, не менее яркие воспоминания о хлопке, на который отправляли ежегодно, начиная с пятого класса.
Окончив семилетку, почти всем классом отправились доучиваться в ирригационный техникум. Специальность особенно не выбирали. Главное, чтобы потом работу получить и себя кормить. Работать мама пошла с 16 лет. Но мечта все же была. Очень хотелось стать врачом. Приемных экзаменов тогда не было, конкурировали документы. Равенство кончилось. Разделились на рабочих, крестьян и бывших. Детей бывших дворян, военнослужащих в офицерских чинах, купцов и вообще торговцев не принимали. К заявлению о приеме в институт прилагалась подробнейшая анкета, в которой мама несколько раз пыталась написать просто — до революции отец был военнослужащим. Но тут же анкета возвращалась с требованием написать чин. Как укажет, что капитан, так получает отказ.
А время шло. Наступил 1937-й. Ее отца арестовали. Какой уж тут институт. Семьи врагов народа высылали в Келес или Искандер. Каждый день бабушка ждала, что ее уволят из школы. Дед сидел в Ташкентской тюрьме, совсем недалеко от своего дома. На углу Малясова и Энгельса (потом — парашютная фабрика, а далее — фирма «Юлдуз», а церковь стала клубом) . Раз в месяц можно было передавать чистое белье и табак. Уголовникам разрешали полные корзины продуктов, политическим — ничего. Но однажды по огромной очереди, стоявшей к маленькому, наполовину закрытому окошку (так, чтобы кроме лба ничего не разглядеть), пронесся слух: «Еду принимают!» Мама бросилась на Алайский, а денег мало, занимать не у кого, да и некогда. Если фамилию выкрикнут, а родственников рядом с окошком нет, раньше чем через месяц не примут. Наспех купила, что смогла, и яблоки тоже. Даже я помню, как дед подтрунивал над мамой: «Ох, и кислые ты мне яблоки купила, дочка, до сих пор оскомина!» Да что говорить! Лучше, чем Анна Ахматова в «Реквиеме», не скажешь. Документальная вещь, так, в точности так и было.
Следом за тридцатыми пришли сороковые, война. Работа у мамы была с постоянными выездами в поле, в Голодную степь или в другие командировки вместе с научными работниками САНИИРИ. В одной из таких командировок и застала маму война, в киргизском поселке Карабалты. Только по счастливому везению удалось вернуться в Ташкент вовремя — движение поездов резко сократилось.
Хоть и была у Ташкента репутация хлебного города, а во время войны все познали, что такое настоящий голод. Карточки, продуктовые распределители. Работники САНИИРИ получали талоны в столовую научных работников. По этим талонам давали затируху. Это темная, самая дешевая мука, заваренная кипятком. Чтобы было сытнее, сливали жидкость и ели как кашу. Если на черный с занозами хлеб удавалось намазать плохо очищенное хлопковое масло, можно было считать, что наступил праздник. На базарах было все, но цены — не подступиться. Хорошо, что институту выделили под Ташкентом землю для подсобного хозяйства. Посеяли рис, овощи. Ездили по очереди туда обрабатывать землю и на прочие работы, за это получали часть урожая.
Но жизнь побеждает во все времена. В начале войны мама вышла замуж за моего отца. Папа был намного старше. По возрасту, а также по зрению в первые годы войны призыву не подлежал. Его отправили на строительство Ферганского канала. Поехали вместе. Жили в землянках по две-три семьи в одной комнате, разделенной ситцевой занавеской. Но были сыты. На трудовом фронте кормили прилично. А к концу войны родилась я.
Я помню себя лет с трех. И самое первое мое воспоминание, как цветной сон: залитая солнцем терраса с некрашеным дощатым полом, и мама стоит на коленях и скребет ножом мокрые доски добела. И поет «Темную ночь». Военные песни были и моими колыбельными. А другая картинка из раннего детства — зимняя. Мы греемся около круглой чугунной печки-буржуйки, и мама рассказывает сказки. Но не про Ивана царевича и Серого волка. Только потом, через несколько лет, я поняла, что моя тайно верующая мама пересказывала Библию. В стране воинствующего атеизма признаваться, что веришь в Бога, решались не все. И мама всегда старалась вопросы веры обойти стороной. Но когда я немного подросла, она сказала: « Верить и молиться или нет, сама выберешь, но одну молитву выучить и знать я тебя очень прошу». И дала «Отче наш». Кроме того, на Пасху она непременно шила мне новое платье, красила яйца и накрывала стол даже в самые нищие времена. И уж, конечно, на Рождество была елка. И не только у меня, но и у мамы, хотя в ее детстве елка была под запретом. Как атрибут религиозного культа. Приходилось завешивать окна одеялами, чтобы никто не подсмотрел с улицы и не донес.
Читать дальше
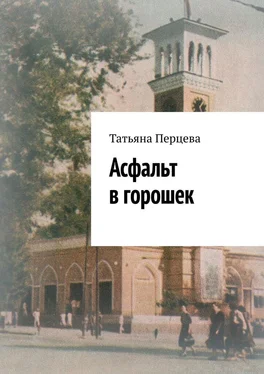


![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)








