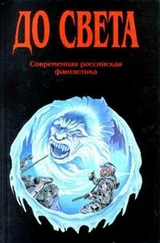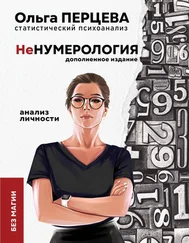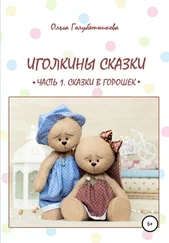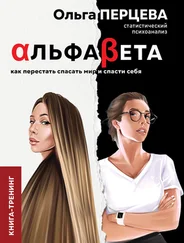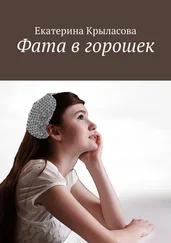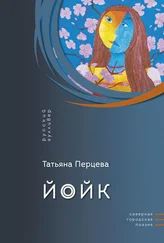Ирина, мама Татьяны Вавиловой
Моя мама, Ирина Александровна Шутихина, по первому мужу Снарская, родилась в Самарканде перед Первой Мировой войной, под новый, несчастливый 1914 год. Именно с него начались беды во многих семьях, да и всей стране досталось сполна. Отец ее, офицер, служил в Самаркандском гарнизоне и вместе со всеми своими сослуживцами ушел на фронт. Однако через год или два, не знаю точно, был комиссован по здоровью и отправлен воинским начальником финского города Брадестага, ныне Раахе. Так мама оказалась в Финляндии, где прошли самые ранние годы ее детства. Потом — революция, отречение императора, борьба красных и белых финнов, объявление независимости Финляндии. Дед решил не бежать на Запад, вернуться в Россию. Считал, что, кто бы ни пришел к власти, Родина остается Родиной. Возвращались на лошадях по заснеженным дорогам Финляндии в Великий Устюг. До сих пор у меня лежит потрепанный, совершенно затертый машинописный документ, который я называю «охранной грамотой». Он выдан деду в 1918 году комиссаром Великого Устюга как свидетельство лояльности к советской власти. В нем говорится, что дед вывез из канцелярии воинского начальника Брадестага все документы и ассигнации на золото и сдал их комиссару. Мама очень его берегла, говорила, что он спас деда от расстрела в страшном 1937-м и мне завещала хранить, боялась возвращения тех жутких времен.
В Устюге семья прожила несколько лет, но как только появилась возможность уехать, дед твердо выбрал направление: «Домой, в Ташкент». Сам-то он уроженец Ташкента. Прибыли во второй половине 1920-х. Возвращаться в Самарканд не было смысла, там ничего не осталось, ни квартиры, ни вещей. Родственникам удалось только сохранить фотографии, их вытряхнули из кожаных с серебряными застежками альбомов. Материальной ценности они не имели. Зато теперь эти фотографии самое дорогое, что у меня есть.
Дед еще в Устюге стал работать прорабом. В свое время он заканчивал Александровское пехотное юнкерское училище в Москве, а пехотинцы должны были уметь строить крепости и изучали инженерное дело. Вторая специальность пригодилась и в Ташкенте. После мытарств по «углам» получили в ЖАКТе комнату на Аккурганской. Бабушка устроилась преподавать немецкий и французский, а мама сдала экзамены в пятый класс школы №3. В начальную школу она не ходила, учила ее бабушка дома. Труднее всего было сдавать узбекский, мало того, что язык не учила, так и алфавит был тогда арабский, очень трудный. Пришлось искать репетитора. Директором школы была Юлия Николаевна Углицких, женщина мягкая, добрая, но сумевшая сплотить коллектив прекрасных профессионалов. Физику преподавала Галина Васильевна (забыла фамилию, она и у нас преподавала в пятом классе). Галина Васильевна была выпускницей женских Бестужевских курсов. Помню фамилии Запрометова и Берестнева, которых не раз вспоминала мама, рассказывая, какими прекрасными педагогами они были. Начальные классы вела Крамская Александра Александровна, мама у нее не училась, а мне повезло, она стала моей первой учительницей. Дело в том, что в районе Аккурганской-Ниязбекской прошла не только молодость моей мамы, но и моя. И учились мы в одной школе. Только во времена мамы она была третьей и располагалась в одноэтажном здании, я же пошла в новое здание, а школа стала сорок третьей.
Я время от времени перебираю мамины детские фотографии. Они были такими разными, школьники двадцатых годов! Вот 1927 год, ученики позирует под окнами школы на Урицкого. Даже по возрасту разные, не все смогли вовремя начать учиться. А уж по прошлому социальному положению и такому же прошлому материальному достатку и говорить нечего. В школе они все равны — дети дворян, извозчиков и торговцев. Пока равны… И все одинаково бедны. Но полны надежд, и школу свою беззаветно любят, и братство сохранили до седых волос.
Тогда с упоением рушили все старое, отжившее, чтобы «новый мир» построить, даже песни пели об этом. Гимназии тоже олицетворяли ненавистное прошлое, и в новых школах решили учить по прогрессивной зарубежной системе — Дальтон-плану. Хорошо, что не очень долго! Классов в обычном понимании не было, кабинетов физики, химии, природоведения и т. д. В кабинет к преподавателю одновременно приходили учащиеся разного срока обучения и получали каждый свое задание, записанное на карточке. Желтая карточка давалась начинающим. Они готовили материал самостоятельно, но могли консультироваться у учителя, если непонятно. Выучив, шли сдавать. Сдавший получал новое задание и карточку другого цвета. Двоечники ходили с желтой карточкой несколько месяцев.
Читать дальше
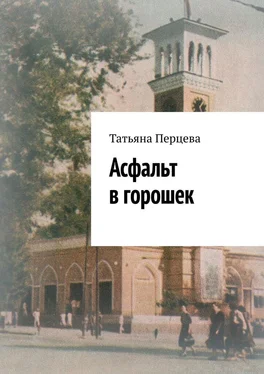


![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)