Вот, пожалуй, и все, что я знаю о жизни родителей в военное время.
После лечения отец вернулся в Ташкент в 1946-м или 1947 году. Сначала семья жила в «Ореховой роще», где работали мама и бабушка, затем отец устроился на работу в госпиталь восстановительной хирургии на улице Каблукова. Семья переехала к одному из врачей госпиталя, близкому другу нашей семьи Рохат Ахмеджановой (тетя Рая), которая жила на Обсерваторской. Там, по словам брата, семья жила год-полтора. Потом получили ордер сначала на одну, а затем и на две комнаты в ЖАКТовском дворе на Каблукова, недалеко от угла Каблукова и Финкельштейна.
Семья жила там до 1955 года.
Все это время отец работал в госпитале, сначала лечащим врачом, потом руководителем отделения, а после защиты кандидатской диссертации в 1952—1953 годах его назначили директором. Мама в это же время окончила стоматологический техникум по специальности «стоматолог» и получила диплом врача.
В 1956 году отец поступил в докторантуру Первого московского мединститута. Его руководителем был завкафедрой травматологии профессор Чернавский Виктор Алексеевич. В августе 1956 года папа, мама, я и годовалая сестренка отправились в Москву. Поселили нас в общежитии Академии медицинских наук по адресу Большая Якиманка, 40, напротив французского посольства. Мама устроилась на работу на полторы ставки в Первую Градскую больницу (на Ленинском проспекте), а отец работал в клиниках при кафедре Первого московского меда докторантом.
После возвращения из Москвы мама устроилась на работу в больницу им. Ташсовета (в народе — Федоровича) на улице Полторацкого. После тех лет, когда она была основным кормильцем семьи в Москве, работа в больнице была намного легче. Рабочий день — шесть часов без обеда, с 9 до 15 — позволял ей больше времени уделять семье.
Мама работала в Федоровича до 1977 года. До своей пенсии.
И еще про одну маму. Маму Люды Стамбулы, моей подруги и одноклассницы, ныне живущей в Тель-Авиве. Очень короткий, но трогающий душу рассказ.
«Мне всегда странно, что я не могу вспомнить лица мамы во времена моего детства. Отрывочные воспоминания: вот мы в гостях у ее подруги или у другой. Вот мы в ОДО на детском новогоднем празднике. Я стою на сцене и плачу, потому что потерялась среди огромного количества людей. А мама думала, что меня вывели стихи рассказать. Дала нагоняй. Зато хорошо помню воскресенья, когда после дневного купанья в корыте где-то часа в 4 слушаем по радио оперетты. Помню свою боязнь родительских собраний. Зная, что не все отлично и ожидая взбучки, начинаю усиленно питаться. А так как ела я плохо, то приходилось ожидать окончания этого священнодействия, а там и первая злость унималась (странно, Люда всегда училась хорошо) . Поездки на остров (его называли Буян) на Чирчике. Там были угодья штаба ТуркВО, и летом нас возили купаться. Мама стоит на берегу, и кто-то ей сказал. что мы пошли со старшими тонуть, и она кричит: «Утонешь — домой не приходи!» Не помню объятий и поцелуев по причине сначала маминого туберкулеза, а потом я просто отвыкла от этого. Помню, что мама была веселой со своими друзьями. Строгой, иногда чрезмерно, со мной, неласковой с бабушкой, сестрой и братом, хотя любила их. Всегда находились для этого причины. Про войну, как ни просила, мама не рассказывала, хотя пару раз у нее промелькнуло воспоминание про красавицу-полячку, сошедшую с ума в концлагере, которую она видела в Польше, и какой леденяще-холодной была зима сорок второго под Сталинградом, а также как много людей утонуло при переправе через Волгу. Иногда я жалею, что не приставала и не вытягивала из нее воспоминания: понимала, что ей больно. Бабуля была добрейшей души человек, и хотя жила в таких городах, как Днепродзержинск, Полтава, оставалась простой местечковой еврейкой с картавым идишем, на котором они разговаривали с дедом, чтобы я их не смогла понять. Дед был по моим понятиям высоким и красивым, прошел трудовой фронт и работал на Энгельса в доме моделей от швейной фабрики, закройщиком. Мог делать хорошие деньги, но про таких говорили: песок в рукавах. Как я помню, он меня обожал — первая и самая красивая. Бабуля души во мне не чаяла, и в силу ее слабоволия я этим пользовалась. Она не работала и (пусть меня простит) была неряшкой. Тапки ведь раньше в домах редко носили, так она из дома на улицу и обратно босиком, не обращая внимания на густую пыль. Готовить умела вкусно, но не шибко любила, я, видать, в нее. Помню мацу, которую бабуля пекла на пасху и хрумкала ею дома и подружек угощала. Пекла она вкуснейшие треугольнички с маком на праздник (мак дорогой был), и с тех пор я больше никогда такие не ела. У нее в паспорте не было числа рождения, только указан сентябрь. На мой вопрос всегда был один ответ: я родилась на Рошшун. Но ведь он каждый год в другой день. Все равно. У нас не было чисто еврейских праздников. Когда после Рошшун наступал день поста (о чем я, естественно, не знала), бабуля в жару закрывала входную дверь, готовила что-то, мы ели, и на мой вопрос: «Почему закрываешь, жарко ведь», — отвечала: «Чтобы не видели, что мы кушаем». Я, естественно, не понимала. После дедушкиной смерти идиш ушел из нашего дома, а я, сволочь маленькая, подсмеивалась над бабушкиным русским. Соседи относились к бабуле с уважением, не реагируя на то, что она еврейка. Бывало, бабуля сидит возле порога (двора не было, дверь сразу на улицу), и когда мимо идет кто-то из соседей, обязательно подходит к бабушке, и начинается обсуждение животрепещущих проблем окружающих. Помню, мне около пяти лет, и мы жили в подвале у узбекской семьи. Там был узенький коридорчик, где бабуля готовила на мангалке, а потом спуск вниз в комнату с глиняным полом. Только она сняла кипящий борщ, а я несусь со двора мимо и… попадаю в борщ, куда я на полном ходу залетела правой ручонкой и обварила ее. Дед чуть не убил бабулю, а его старшая сестра меня благополучно лечила, благо жила в соседней квартире, правда, на земле. Бабуля никогда меня не выдавала маме, зная, чем это может кончиться, хотя притом всегда грозилась: «Все маме расскажу».
Читать дальше
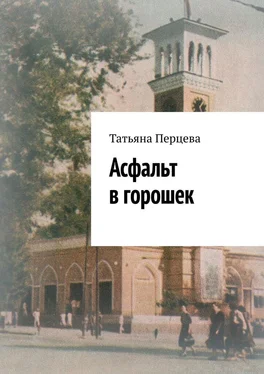


![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)








