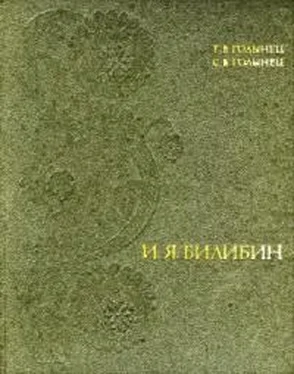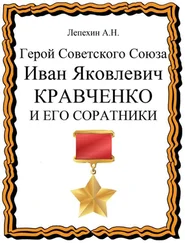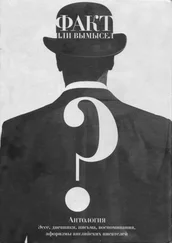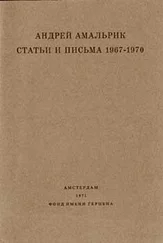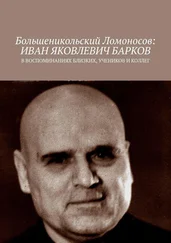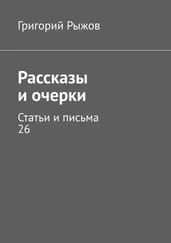2ГРМ, ф. 97, ед. хр. 26, л. 1.
3ГТГ, ф. 60, ед. хр. 22.
4ГТГ, ф. 60, ед. хр. 24 (6 января 1927 г.).
5ГТГ, ф. 60, ед. хр. 21 (11 декабря 1926 г.).
6ГТГ, ф. 60, ед. хр. 31 (31 декабря 1927 г.).
7ГТГ, ф. 60, ед. хр. 37 (21 февраля 1929 г.).
8Un petit croquis en vers (франц.)— маленький набросок в стихах.
9Вот! (франц.).
10Вот и все (франц.).
11 ГТГ, ф. 60, ед. хр. 38 (11 сентября 1935 г.).
12Вс. Малянтович. Два силуэта. И. Я. Билибин. С. Н. Судьбинин. — "Русские новости" (Париж), 1945, 7 сентября.
Ю. Н. Завадовский
Ивана Яковлевича Билибина все знают преимущественно как знатока русского искусства, как создателя своего билибинского русского стиля. Мало кому, возможно, известен его интерес к Востоку, к восточной тематике, восточному пейзажу и в особенности к тем деталям, накопление которых и составляет специфику Востока. Даже в его русских стилизациях часто присутствуют восточные мотивы, органически переплетаясь с первыми в одно целое. Интерес к Востоку у Ивана Яковлевича был очень глубок и сочетался с отличными знаниями и неутомимыми поисками для уточнения деталей. Мне пришлось соприкоснуться именно с этой стороной его творческой деятельности.
Знакомство с И. Я. Билибиным у нас было семейное и началось в Крыму. Моя мать Александра Александровна Завадовская, урожденная Белелюбская, проводила там летние сезоны с родителями и рассказывала мне, что у них часто бывал гимназист Ваня Билибин, который в то время писал крымские пейзажи, тот самый, который потом стал знаменитым художником. Это было очень давно; вероятно, в конце прошлого столетия, когда Крым был еще русским Востоком.
Когда же волею судеб мы все очутились в двадцатых — тридцатых годах нового века в Париже, то матери предстояло решить вопрос: учить ли меня живописи, либо предоставить мне право стремиться к востоковедению. Оба эти направления весьма прельщали меня, но нужно было получить совет от компетентного лица. Иван Яковлевич был без всякого сомнения the right manin the right place {1}. И он сказал: "Нет. Искусство не кормит, пусть идет по востоковедению". Его слова были решающими. Они же показывают, что нелегко было в те годы работать во Франции русскому художнику, хотя бы с мировым именем.
Я действительно пошел учиться в Школу живых восточных языков, и с тех пор, несмотря на разницу лет, между маститым художником и юным востоковедом завязалась настоящая дружба, основанная на моем интересе к живописи и интересе Ивана Яковлевича к Востоку. Я всегда бывал очень рад и горд, когда Иван Яковлевич расспрашивал меня о деталях восточных реалий или даже поручал мне разыскать в библиотеке что-нибудь ему нужное по восточной тематике.
Билибины занимали большую мастерскую с застекленными окнами возле остановки метро "Пастер", на бульваре того же имени. Зимой там топилась буржуйка, но бывало настолько холодно, что гостей просили не раздеваться. До Парижа Билибин жил в Египте, то есть опять-таки на Востоке, и привез восточные набойки (калемкары), коптские иконы с черными мадоннами, арабские лубки (ксилографии) и множество интересных для будущего ориенталиста вещей, относящихся главным образом к народному искусству Востока. Все это украшало стены его мастерской.
Он привез оттуда и ряд своих крупных акварелей: видов Египта и Палестины. Редко кто представляет себе, вероятно, Билибина как акварелиста- пейзажиста.
Не знаю, сохранились ли теперь эти работы, на которых запечатлено столько солнца и неподдельного Востока. В свое время они мне нравились больше всего другого.
Когда вместе с французским издателем Дюшартром, пропагандировавшим народное искусство во всех его проявлениях, Иван Яковлевич устроил выставку русского и восточного лубка, то и он и я дали на нее экспонаты из своих собраний. Но меня Иван Яковлевич особо привлек к переводам легенд на лубках и даче пояснений к ним. После выставки он подарил мне многокрасочного воина, оседлавшего льва (оба с громадными усами!), который у меня висит дома в Новых Черемушках. (Этот лубок, изображающий персонажа из народного эпического романа Бени-Хилаль, я даже опубликовал с комментариями в чешском журнале "Novy Orient, Arabske lidove obrazky". Praha, 1951.)
Для издательства "Натан" Билибин сделал ряд иллюстраций к "Тысяче и одной ночи", от которых у меня сохранился оттиск вида базара в Самарканде с собственноручной дарственной надписью "страдающего в острой форме эпистолофобией И. Билибина". Дело в том, что я был уже тогда на Востоке, и оттиск для меня был передан моей матери в Париже. С тех пор я побывал в Самарканде реальном, но билибинский сказочный Самарканд ни в одной детали не противоречит действительности и ее духу.
Читать дальше