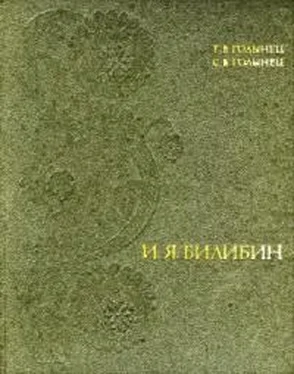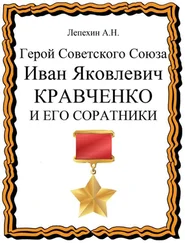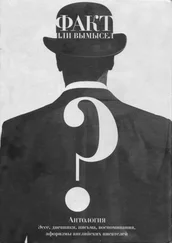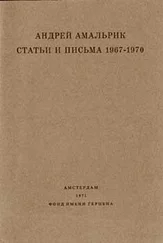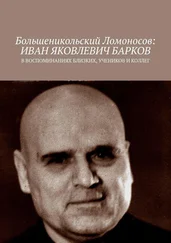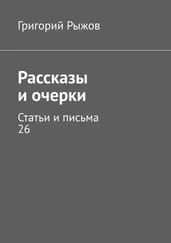Стенная роспись храма была произведена художниками К. П. Пясковским и А. Н. Рязановым, а также, сколько помню, архитектором и живописцем профессором В. А. Брандтом, которому принадлежал и самый архитектурный проект храма, воздвигнутого над русскими могилами в начале 20-х годов нынешнего столетия. Надо сказать, что роспись храма в билибинском древнерусском стиле положительно обратила этот храм- памятник в художественную достопримечательность старого чешского города.
Останавливался Билибин в Праге на частной, скромной квартире своего петербургского знакомого, инженера Мирковича, состоявшего в 30-х годах старостой Ольшанского храма.
В июне 1935 года на сцене чешского Национального театра шла опера Римского-Корсакова "Царь Салтан" в оформлении Билибина. Национальный театр в Праге стоит на очень высоком уровне первоклассных оперных театров. Им выполнены были все требования маститого русского художника, и "Царь Салтан" в билибинской художественной рамке прошел в заслуженном театре в исполнении чешских артистов и в сопровождении великолепного оркестра с исключительным успехом.
1935 год был началом развития деятельности Русского культурно-исторического музея. Мне как директору музея нельзя было пропустить посещения Праги знаменитым русским художником без того, чтобы не обратиться к нему с просьбой о пожертвовании музею какой-либо из его работ, и вот в одно прекрасное утро я встретился с Билибиным в квартире Мирковича. Художник был уже предупрежден Мирковичем о моем приходе и, даже более того, подготовлен психологически и к тому шагу, который ему надлежало предпринять в ответ на мою просьбу.
Встретил он меня, выслушал рассказы о музее и просьбу о художественном даре для музея с видом добродушной серьезности (обо всем уже знал наперед!). Пытался даже кое в чем для виду, что называется, возражать, но его друг Миркович поддерживал меня, и Ивану Яковлевичу "пришлось", в конце концов, согласиться и заявить о своей готовности пойти навстречу желанию музея. Он тут же протянул мне припрятанный перед тем неподалеку небольшой, но прекрасно сделанный акварельный рисунок костюма татарина к опере "Сказание о невидимом граде Китеже".
Дополнительно я обратился к Ивану Яковлевичу с личной просьбой — написать (если не нарисовать?!) мне что-нибудь в мой литературный альбом.
Мило усмехаясь, художник взял из моих рук альбом и на одну из свободных страниц вписал:
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.
(А. С. Пушкин. Царь Салтан).
Валентину Федоровичу Булгакову на память о постановке "Царя Салтана" в Праге 18/VI. 1935 г.
И. Билибин
Этими строками с поэтической выпиской из Пушкина я и закончу свой рассказ о короткой встрече с симпатичным художником.
М. Н. Потоцкий
Мы познакомились с Иваном Яковлевичем, когда я был еще ребенком и большой океанский пароход, на котором плыли мы с мамой, причаливал в порту Александрии. Человек, одетый в белое, с матовым загоревшим лицом, с усами и иссиня-черной бородой, махал моей маме, Александре Васильевне Щекатихиной, и мне своей шляпой.
Когда на пристани он подошел к нам, пробравшись через толпу встречающих, я внимательно его рассмотрел. У него была приветливая улыбка, проницательные, искрящиеся добротой карие глаза, гладко выбритые щеки, на правой щеке бородавка. Обращаясь ко мне, он сказал, слегка заикаясь: "Ну, Славчик, будем знакомы. Я — дядя Ваня".
Из Александрии мы поехали в Каир, где на рю Антик-Кхана, 13, в небольшом доме, расположенном в саду с финиковыми пальмами, декоративными бананами, огромными платанами и розами жил тогда Иван Яковлевич. Узкое окно фасада выходило в сад, окна противоположной стороны смотрели на одну из улочек, ведущую к арабскому рынку Муски. Иван Яковлевич занимал огромную мастерскую и две комнаты. На одной из стен мастерской висела персидская декоративная ткань с изображением битвы. В правом углу на столе стояли керосиновая лампа, банки с водой, чашечки с разбавленной краской, из стаканов торчали кисточки и карандаши. Здесь же лежали тюбики с акварельными красками, кальки, бумага. За этим столом работал Иван Яковлевич. В другом углу разместилась со своим фарфором Александра Васильевна.
В Египте рабочий день Ивана Яковлевича начинался в шесть часов утра; с одиннадцати до шести часов вечера был перерыв, а затем, иногда до поздней ночи, снова работа. Художник любил работать по ночам до двухтрех часов ночи.
Читать дальше