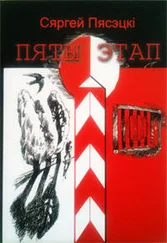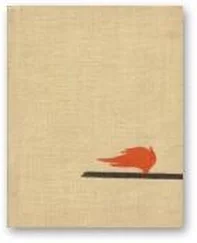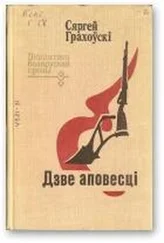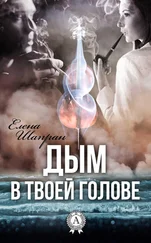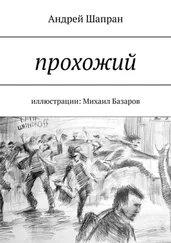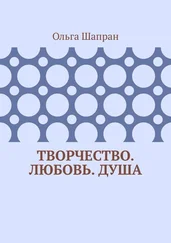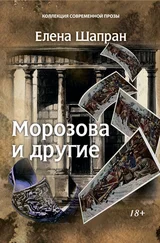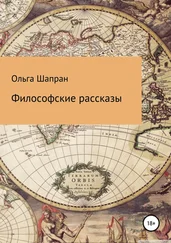«Слова, взятыя для заглавия этого обзора, принадлежат Льву Николаевичу Толстому. Их глубочайший смысл далёк, конечно, от однозначности, ибо содержит в себе не только оценку слова, но и отношение к нему. И в первую очередь отношение к слову - материалу литературного творчества.
Если в жизни, в быту между нашим словом и делом (поступком) могут быть несоответствия, и часто за малыми словами стоят большие дела, или, что также случается, за большими словами - дела малые, то в творчестве, определённым образом высказываясь, мы непременно столь же определённым образом поступаем. Иначе говоря, если в быту не суть важно, как и о чём сказать, а важно, что и как сделать, то в творчестве между тем “что сказать” и тем “как сказать” стоит знак абсолютного равенства. И никому здесь не может быть повышена оценка только за желание сказать о хорошем, о большом, если сказано об этом так, что ни хорошего, ни большого не видно. [.]
...желание сказать красиво - “болезнь”, распространённая среди многих начинающих авторов. “Сказал красиво” часто понимается ими как “сказал поэтично”. Здесь путаются понятия красивости и красоты. Волшебство же настоящей поэзии заключается не в красивости и даже не столько в красоте, сколько в предельной её простоте и ясности. Конечно, в простоте не примитивной, а сложной, многозначной, пушкинской простоте. А насчёт красивости - давайте вспомним тургеневского Базарова, которого все мы “проходили” или сейчас “проходим” в школе. Не он ли убедительно просил своего друга Аркадия: “Не говори красиво”. [.]
Здесь следует заметить, что стремление “сказать красиво” - только одна из причин обилия в стихах начинающих авторов подобных красивостей. Вторая причина, может быть даже более существенная, заключается в надуманности стихов. И прежде всего в надуманности чувств, которые в таких стихах не переживаются, а многословно описываются, ибо глубоко, правдиво пережить надуманное, конечно, нельзя.
Надумываются чувства, как правило, негативные: скорбь, тоска, одиночество, в общем - душевные муки. Что ж, человеческой душе свойственны состояния самые разные, указаний на то, что и как чувствовать, никто никогда не давал. Нет указаний на чувства и в поэзии. Но требование к ним - быть правдой - в поэзии есть. Его можно даже назвать внутренним законом творчества, отступив от буквы которого, поэт неизбежно терпит поражение. [.]
И ещё поэзия - это тяжкий труд, работа, в которой нет ни отпусков, ни выходных, а есть только будни и праздники. И праздники тогда, когда после мучительных поисков ляжет вдруг на бумагу строка: “И мальчики кровавые в глазах”, - словно рентгеном просвечивающая потёмки души Бориса Годунова, и поэт, не в силах совладать с восторгом, восклицает сам о себе: “Ай да Пушкин!..” Подытожим наш разговор словами замечательного испанского поэта Гарсиа Лорки [.]:
“Ну что я тебе скажу о поэзии? - писал Лорка. - Если правда, что я поэт милостью бога - или дьявола, - то правда и то, что я поэт милостью техники и большой работы. И милостью сознания того, что же такое стихи”».
Дарэчы, каб хоць трошкі ўявіць, якія горы чужой творчасці даводзілася вычытваць літаратурнаму кансультанту Някляеву, працытуем яго «справаздачу» за 1975 г.: «Около трёх с половиной тысяч стихотворений, поэм, рассказов, повестей и даже романов принесла в редакцию “Знамени юности” литературная почта. Если бы все эти произведения были опубликованы - ими заполнились бы все страницы каждого номера газеты, для других материалов просто не осталось бы места».
Зразумела, была яшчэ і будзённая журналісцкая праца, якая ў Някляева, падобна, не заладзілася, і, мусіць, таму пра яе ён згадвае толькі зрэдку: «.Меня послали в деревню написать материал о мещанстве - тогда шла кампания по борьбе с мещанством. Я приехал в какую-то деревню и постучал в первый попавшийся дом. А там застолье и праздник - отмечают покупку холодильника. Вся семья радуется, стол ломится, все счастливые. Хозяин мне рассказывает: в прошлом году купили ковёр, тоже праздник был.. Я приехал и написал материал о том, что никакого мещанства не существует, а дела идут нормально: сегодня - ковёр, завтра - холодильник. и каждый день праздник. Конечно, материал этот никто не напечатал.»
Са штату рэдакцыі “Знамёнки” Някляеў урэшце сышоў, але не сам па сабе. Дакладней, не зусім сам па сабе. Гэта было ў тым жа 1975 г. «Я дзяжуру па чарговым выпуску “Пятніцы”, выклікае мяне галоўны рэдактар: “Здымі са “слупа” (была ў нас рубрыка, якая называлася “Слуп аб’яў”) і замяні чым-небудзь вось гэтую аб’яву...” Я чытаю тое, што ён загадвае зняць: аб’яву ў ашчаднай касе напярэдадні 8 Сакавіка. “Таварышы ўкладчыкі! Прыстойнымі ўкладамі адзначым жаночае свята!” Не разумею, што тут антысавецкага? Але - калі загадана - здымаю. Чым замяніць? Рэдактар сказаў: чым-небудзь. Не сказаў жа, чым канкрэтна... І я стаўлю на вызваленае месца на “слупе” такое паведамленне: “Цудоўны зрок у сантэхніка Седзякова з г. п. Седзякі. Ён чытае газету, седзячы на ёй”. Назаўтра раніцай разам з галоўным рэдактарам мы стаялі «на дыване» ў кабінеце загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ...»
Читать дальше