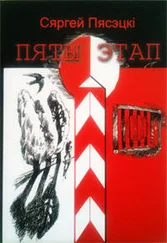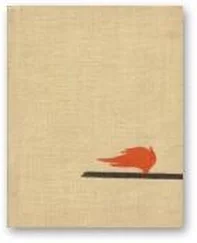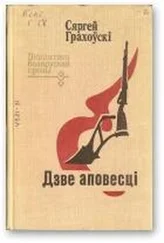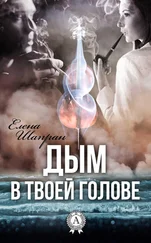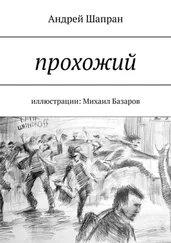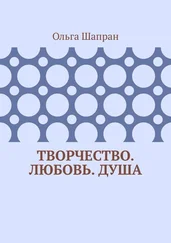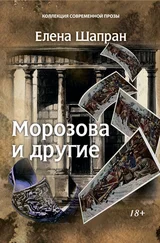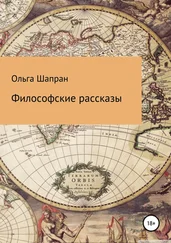«“Между Балтийским и Северным морями со времён седой древности лежит старое лебединое гнездо, зовут его Данией, в нём родились и рождаются лебеди с бессмертными именами.”
Лебединое гнездо. Лебеди с бессмертными именами. В год Андерсена - это более чем прозрачная аллегория. Но выводить её лишь в доказательство неоспоримого: Ханс-Кристиан Андерсен - национальное достояние Дании, он принадлежит к числу людей, составляющих гордость человечества, - не стоило бы труда. Дело в ином: одной фразы, нескольких слов оказалось достаточно нам для того, чтобы стать неотпускаемо вовлечёнными в странно смещённый, неожиданный и удивительный мир великого сказочника. [.]
Имя датского сказочника стойко ассоциируется в моём воображении с птичьим полётом. “Ан.” - крыло изгибается опрокинутым углом, захватывает простор, “дер.” - толчок, в начале крутой и резкий, трепещущий опереньем, а затем плавный, ниспадающий, “сен.” - кончик крыла со свистом рассекает воздух, задевая на виражах тонкие колокольчики звезд».
«Между первой и последней строкой, написанными Максимом Богдановичем, - всего десять лет. Столько живут и поют лебеди.
Ассоциация лебедь - Богданович не разрушается во мне с детства, на озёрах которого не было лебедей. Топали, крыльями хлопали и гоготали гуси, птицы полезно-шипящие. Но мне уже мало было только пользы. В зеленоватой, шелестящей засушенными цветами тетрадке, которую принесла в класс учительница математики, я прочитал стихи о птице по имени Стратим.
В той же тетрадке было стихотворение, записанное так, как пишут прозу: «Мне хотелось бы встретиться с Вами на улице в тихую синюю ночь и сказать: “Видите крупные эти звёзды, ясные звёзды Геркулеса? К ним летит наше солнце, и мчится за солнцем земля. Кто мы такие? Лишь странники, спутники в небесах. Зачем же тогда на земле ссоры и споры, горечь и боль, если все вместе мы летим к звёздам?”»
С этого начался для меня Максим Богданович. Так возникла звезда в созвездии Лебедя».
«...имя Рыгора Бородулина сегодня - имя поэзии, одно из самых блестящих её имён. Я, как и многие другие, люблю поэта Рыгора Бородулина.
Могу, тем не менее, предположить, что кто-то из читателей “Знамёнки” спокойно обходится и без его стихов, вообще не читает поэзию. Что ж, можно жить и так: добровольно оставляя себя за порогом бородулинских университетов национальных традиций, культуры, высшей бородулинской школы родного языка. Можно, конечно, без этого обойтись, только цемент на стройке вашей судьбы наверняка тогда будет пожиже, марка пониже. Ибо меньше будет в пользе красоты».
«Поэзия Генриха Гейне. Ко мне она пришла довольно поздно, уже в студенческие годы. Но в этом недостатке была и своя положительная сторона. Я избежал жалостного восприятия образа поэта, гонимого и измученного, больного и беззащитного. Он сразу пришёл ко мне тем, кем был на самом деле: высоким романтиком, удивительной глубины лириком, а главное, борцом, “лихим барабанщиком революции”, как он сам себя называл.
Бей в барабан и не бойся!
Буди барабаном уснувших!»
«О Маяковском писать трудно. Потому что это любовь, но не та безотчётная, безоговорочная, почти бессознательная, которой любим Пушкин. Это - болевая любовь. Словно кто-то не даёт тебе права любить на равных.
Я всё время пытаюсь сблизить в себе Пушкина и Маяковского. И всегда чувствую, что на границе этого сближения Пушкину как будто достаточно того, чтобы его просто любили, как просто любят жизнь, женщину, ребёнка, а уж в выборе любить или не любить то, к чему привязан был он сам, ты свободен. Маяковскому же необходимо, чтобы и его любовь во всём разделяли. И чтобы ненависть разделяли тоже. А это для любви весьма нелёгкие условия. Потому она и мучительная. И ты перед ней беззащитен».
«Пимену Панченко - шестьдесят.
Есть слова, привычно обслуживающие всякие юбилеи. Но говорить их, обращаясь к Пимену Емельяновичу, почему-то неловко, как дарить раскрашенные бумажные цветы.
Листаю две его книги, которые люблю больше других: “При свете молний” и “Крик сойки”. Произношу стихи:
Сягоння не засну..
Мяне так дзіўна хваляць,
Як спелую сасну
Якую хутка зваляць. —
и боюсь, что всё, что ни напишу сейчас, будет не так, не о том, не о главном. Надежда единственная, что мастер простит».
Да ўсяго Някляеў штомесяц аглядае паэтычную пошту «Знамёнки», коратка рэцэнзуе дасланыя ў рэдакцыю творы - і нават гэтую, здавалася б, руцінную працу робіць з толькі яму ўласцівым бляскам. Адзін з яго ранніх аглядаў цікавы яшчэ і тым, што тут Някляеў ці не ўпершыню выклаў свае погляды на тэорыю і практыку вершаскладання. Дакладней, на тое, што вынікае з тэорыі і практыкі:
Читать дальше