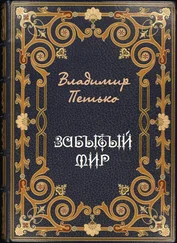А вот Богданов о нас помнил.
А что он помнил? То, что именно нас четверо осталось от большой компании пожелавших попрощаться со студенческими годами весёлой поездкой на море, а больше ему и не понадобилось, чтобы сообразить остальное. Ну и в чём он мог обвинить тогда четырёх весёлых, радостных и глупых молодых людей? В том, что они оказались деревянными? А что это?
А то, что Лена была единственным, поздним и любимым ребёнком. И продолжение его будущей жизни оказалось отрезанным, причём как бы само собой это произошло, как бы стечением обстоятельств, судьба якобы — кто ж знал? Он нас, конечно, наметил раньше, а когда закончил в 1987 году отчёт, уже продуманно, именно для нас, ничего не подозревающих, вписал туда четыре фамилии, по алфавиту: Аксёнов, Виноградов, Конев, Латалин. Вот тогда и стало нас четверо. Фамилии появились и остались на долгие пять лет, потому что не до клада ему стало и не до нас: жена Богданова так и не вышла из того алкогольного заточения, куда сама себя направила с надеждой вместе с дочерью из него выбраться. Осталась там от страха, разрываясь между живым мужем и мёртвой дочерью. Дочь победила, утянула за собой, и стал Богданов жить один. Вот когда он написал «Разъяснение» и напечатал «Приложение». И вложил их в отчёт. А потом стал, как мог, жить один. До самой последней минуты, наступившей на станции метро «Каширская». А нам в наследство оставил чемодан с отчётом и радиолокатором.
Из ненависти?
Мы уже шли по тропе, но я уставал с каждой минутой всё больше. А Зенков спокойно шёл впереди, нёс рюкзак, на плече две пары лыж, лопату и кайлу. Ему легче, хотя и не так удобно. И он сделал своё дело.
Но за что Богданову нас ненавидеть, если мы просто были молоды, радостны и любили его дочь, которая любила нас? Ну да, любили, мы же не знали ещё, что это такое — любовь, и считали, что любили. С другой стороны — разве не должен он был нас ненавидеть? Холодно, безмолвно? Нет, если б он нас ненавидел, то что-то сделал бы… Нет-нет! В том-то и дело, что нет! Ненависть требует удовлетворения, и Богданов не мог нас ненавидеть, потому что, воплотив свою ненависть в жизнь, сделав нам что-то злое, наказав нас, он должен был испытать удовлетворение! Но если бы он нас даже физически уничтожил, если бы мы действительно поубивали друг друга тогда, в июле девяносто второго года, был бы он удовлетворён? Вряд ли… А почему — вряд ли? Конечно, был бы удовлетворён, а иначе — зачем?
Это если бы был жив! Ну конечно! Если живой, то да, испытал бы удовлетворение. Как же — было преступление, случилось и наказание. А он уже был на том свете. Вот-вот, то есть нет, конечно нет! Он знал, что после его смерти мы получим отчёт, то есть он так и распорядился, и тогда только отправимся за кладом! Тут другое. Другое! Вот оно в чём дело, тут другое! Он что-то наперёд знал! Он знал то, о чём я, шагая через ночную Волгу, только подозревал, да и то после того, как Зенков буквально ткнул меня лицом в этот чёртов чугунок! Хитрый, подлый, наглый, мерзкий Талер!
Тут что-то должен, наверное, понимать Зенков, а я деревянным своим умом никак в толк взять не мог.
На волжский лёд опустилась ночь, а день, если смотреть по часам, длился. Серый, даже чёрный продолжался день, хмарь висела над Волгой, и это наступила ночь. И я всё, всё вспомнил, отрывисто, но вспомнил — а я никогда не позволял себе этого вспоминать. Я вспомнил это как раз к середине пути и тогда-то, не выдержав, снял рюкзак и, уперев руки в колени, отдыхал. И когда я вспомнил, то сломалось в этот момент что-то, тихо и тупо — хруп! Как раз когда Зенков в очередной раз предложил коньяк. Что-то я сообразил в этот момент, потому что дальше началось нечто иное, а бывшее ранее закончилось.
Пришёл страх! Он явился откуда-то сверху и окутал, как будто взял в холодный кокон. И я это принял без возражений, потому что заслужил! Заслужил я, а страх-то оказался не за себя, — я ведь был не сам по себе, — меня ждали дома! Вот, за них… Они что, тоже заслужили? Но за что?
Движение — вот спасение от страха и малодушия. Я был обязан вернуться! Не знаешь, что делать, так делай что-нибудь, и вместо коньяка я попросил Зенкова достать из рюкзака чугунок. Без слов он это сделал, и я стоял, держа лёгкий пакет в руках. Потом вынул оттуда чугунок, вздохнул, размахнулся и отбросил в сторону. И забыл.
Мои родные, любимые…
Зенков хмыкнул, и я догадался о том, что он мог бы сейчас сказать — что, дескать, весной, когда лёд растает, уйдёт чугунок в компанию к рукомойнику — почему-то ему не нравилось слово «урыльник». А я мог бы добавить: и к сковороде, которую утопил Латалин. Но не добавил, а скривился: против воли, внезапно, но успел отвернуться от Зенкова. Слабое облегчение растеклось от сердца по спине: я поступил правильно. Первое, что я сделал после того, как началось что-то другое, я сделал правильно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу