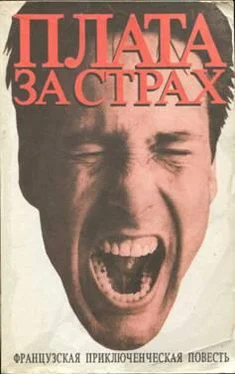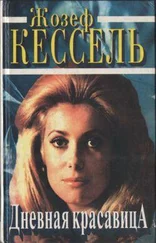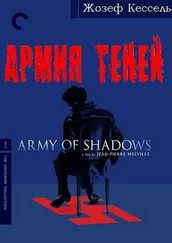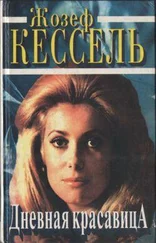С вершины маленького холма донеслись возбужденные крики.
— Пора, пора! — воскликнула Патриция.
Она хотела броситься прочь. Я удержал ее за руку.
— Подожди, — сказал я. — Кажется, Ол'Калу хочет что-то сказать.
Девочка внимательно прислушалась, затем пожала плечами.
— Он повторяет одно и то же. Лев… Лев… Лев…
И она побежала к манийятте. Я медленно пошел за ней. Последнее бредовое видение Ол'Калу потрясло меня. Перед ним вновь и вновь оживал грозный хищник, которого старик убил, когда был мораном, и который теперь, пятьдесят лет спустя, убивал его.
Я опоздал и не мог воочию насладиться эффектом, на который рассчитывала Патриция. Но я мог судить о нем на слух. Потому что, когда я находился еще на полпути к манийятте, шум и вопли, звучащие там, разом смолкли. По этой внезапной тишине можно было догадаться, как велико было почтительное удивление масаев перед девочкой, которая повелевала львом. Впрочем, молчание было коротким. Едва я добрался до извилистого прохода в колючей ограде, праздничный гомон в манийятте возобновился с новой силой. А когда вошел внутрь, празднество масаев развернулось передо мной во всем блеске первобытных красок, звуков и движений.
Какие декорации!
Какие персонажи!
Низкая и сводчатая, покрытая слоем засохшей корки, которую поддерживали расположенные на ровном расстоянии согнутые ветки, — несколько дней назад их поливали на моих глазах коровьим навозом, — теперь манийятта походила на свернувшуюся в неровный круг коричневую кольчатую гусеницу. И внутри этого круга собралось все племя.
Все, за исключением десятка молодых людей на середине площадки, жались к растрескавшимся стенкам манийятты.
На женщинах и девушках были их самые лучшие наряды: хлопчатые платья кричащих цветов. Многочисленные кольца белого металла охватывали их темные шеи, руки и лодыжки, и на всех были украшения из базальта или меди, добытой в руслах пересохших рек или в маленьких погасших вулканах, которые горбами вздымаются над зарослями. Самые старые с достоинством покачивали удлиненными, оттянутыми мочками ушей со вставленными в них трубочками из тканей, дерева или железа, — они походили на петли из кожаных сморщенных шнурков и спускались им на плечи.
Единственным украшением мужчин были их копья.
У всех, кроме молодых воинов, которые вереницей кружились на середине площадки.
Каждый из них, помимо копья, был вооружен длинным кинжалом, заточенным, как меч, и толстым щитом из коровьих шкур, раскрашенным в яркие цвета, с непонятными знаками. И у всех было какое-нибудь украшение: страусовые перья, укрепленные на лбу, серьги слоновой кости, ожерелье из цветных стекляшек. Но только у троих моранов, которые возглавляли хоровод, были прически. Ибо остальные — те, кто лишь приближался к заветному возрасту или уже вышел из него, — были обриты наголо, как и все масаи. И только моранов украшали высшие трофеи: львиные когти, клыки, куски рыжей шкуры. Впереди шел самый высокий и самый красивый моран, Ориунга, и над его шлемом из заплетенных волос и красной глины колыхалась царственная грива.
Все это оружие, все украшение вздрагивали, сотрясались, мелькали, подчиняясь ритму темных тел, молодых и могучих, которые не стеснял и не скрывал кусок ткани, переброшенной через плечо. Один за другим они кружили, кружили все быстрее, и движения их становились все судорожнее.
Они не просто шли или плясали. Это был хоровод, состоявший из подскоков, прыжков и прерывистых пробежек с резкими остановками. Ничто ими не управляло, ничто не связывало между собой. Каждый делал, что хотел. Вернее, каждый отдавал свое тело во власть исступления; его вывихивало, выкручивало, расчленяло. Не оставалось ни одного сухожилия, ни одной мышцы, ни одной фаланги, которые бы не жили своей собственной жизнью, подчиняясь конвульсиям.
И то, что вырывалось у них из груди и горла, не походило ни на песню, ни на речитатив: это были нечленораздельные хриплые звуки, и они задавали ритм вибрациям расчлененных вывихнутых тел. Это был какой-то нескончаемый крик. Опьяненный, самозабвенный, затухающий, прерывистый. Каждый издавал его по-своему, подчиняясь желанию, инстинкту: у одних в нем преобладала радость, у других — страдание, у третьих — тоска, у четвертых — торжество.
Но несмотря ни на что, в этих безудержных, бесформенных, беспорядочных движениях и в этих голосах без ритма и лада была какая-то неуловимая связь, первозданная гармония, которая не подчинялась никаким законам, но брала за самое нутро.
Читать дальше