А потом поймает свою пулю и успокоится. Да, только она сможет остановить его. А она давно летит в него, очень давно. Он даже устал ждать ее. А нынче уже чувствует ее разгоряченное холодное приближение. Только бы сразу уложили наповал. Стрелять наверняка, будет Кот, дай Бог ему не промахнуться. И ему он тоже докажет, что и из угла есть выход…
Мимо извивающейся, путающейся в трусиках Нины вышел в желтый прямоугольник раздевалки.
— Я хочу выпить, — потребовал у Кота, который вышел из зала вслед за ним.
— А я думаю, что не стоит, — неуверенно возразил майор.
— Может, и не стоит, — охотно согласился с ним Тарасевич, и тут же, переходя на «ты» и тем самым подчеркивая, что выходит из подчинения, спросил: — А попросить тебя могу? Как офицер офицера?
Кот приподнял голову: смотря о чем, но слушаю.
— Не трогай Нину. В моей жизни она еще не стала никем, и что бы ни случилось сегодня, она ни при чем. Она просто беззащитная и слабая женщина, но никак не сообщница.
— Ты говоришь так, словно заранее обрекаешь себя на поражение.
— Я никогда не буду побежденным. В отличие от тебя, майор. Насколько я понял, ты очень боялся промахнуться в этой жизни. Желаю тебе не промахнуться и в очередной раз, — вкладывая в свои пожелания особый смысл, жестко заключил Андрей.
Кот продолжал вприщур глядеть на него. Потом оглянулся на дверь, за которой росли бурные овации — наверное, на арену вышел Исполнитель. И, на что-то решившись, майор вдруг вытащил из кобуры под мышкой пистолет Макарова. На глазах у Андрея выдавил из рукоятки магазин с желтенькими крутолобыми пулями, подпертыми пружиной к самому верху.
— Я приблизительно догадываюсь, что ты намерен сейчас сделать, — положив оружие и патроны в разные карманы пиджака, сказал он. — Если Исполнитель прямолинеен в приемах, то ты настолько же прямолинеен в характере и поступках. Ты прогнозируем. Не напрягайся, — увидев, как Андрей собрался для прыжка, выставил он вперед руку. — Я обещаю не трогать Нину и тем более могилу твоей жены. Стоять! — уже выкрикнул Кот, когда на последние слова Тарасевич дернулся к нему. — Да, от твоего поведения будет зависеть, чтобы жена спокойно спала там, где ее похоронили. А теперь… теперь я тебя отпускаю. Ты уходишь быстро и исчезаешь. В Приднестровье, Абхазию, Югославию — куда угодно. Но нигде никому ни слова о «Стрельце». Тебя здесь не было.
Зал загудел нетерпеливее, и Кот поторопил:
— Теперь я жду твоего слова.
— Я никогда не праздновал труса, — озадаченный предложением и поведением начальника, медленно проговорил Тарасевич. Ну ладно, если бы это предложение сделал тот же Серега, но чтобы сам Кот… А впрочем, что он знает о майоре? Да и после того, как он сравнил страну с гладиаторской ареной, можно предположить, что не вся его совесть перетекла в купюры. И еще долго, видимо, будут сопротивляться люди тому, что им навязывается.
— Это не трусость, а разумность. А ты — это я несколько лет назад. Я многое бы отдал за то, чтобы и меня кто-то остановил перед началом моей новой службы. Никого не оказалось рядом, — разложил, наконец, свой жизненный пасьянс перед Тарасевичем майор. — Уходи. Я не хочу, чтобы ты убивал.
— А как же… сам?
— Не твои заботы. Прощай. Иди в эту дверь, потом через забор и в лес. Ну! — зверино зарычал Кот, разбередивший самого себя и боящийся теперь отрезветь.
Андрей кивнул ему и распахнул дверь в темный коридор.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
«Свинья» в центре Москвы. Армия, спаси свой народ! Ростропович приезжал играть на похоронах марш для России. Понедельники светлыми не бывают. «По парламенту, бронебойными, прямой наводкой — огонь!» «Вам высокое „Честь имею“ не позволят произнести».
Полковник — толстый от спрятанного под бушлат бронежилета, в чулке-маске — выждав только ему известное время, отдал в мегафон негромкую команду:
— Пошли.
Омоновцы застучали дубинками по щитам, сделали несколько шагов вперед. В толпе демонстрантов закричали: кто от того, что был вытолкнут в лужу, кто от злости и отчаяния.
Этого рывка хватило, чтобы дубинки достали до поливальной машины, на желтом горбу которой стояли освещенные фарами ораторы и фотокорреспонденты. Оскользаясь, они горохом посыпались вниз, и только один — в черной куртке, с длинными мокрыми волосами, остался наверху. Мишка узнал знакомое по телевидению лицо: писатель Проханов, главный редактор запрещенной газеты «День».
— Народ! — закричал он сорванным, сиплым голосом. Но до него уже дотянулись влезшие на машину омоновцы, вцепились в куртку.
Читать дальше






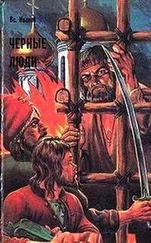

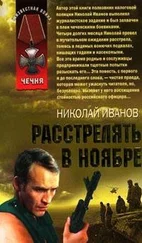
![Николай Иванов - Элвуд Роклан. Возвращение домой [СИ]](/books/415105/nikolaj-ivanov-elvud-roklan-vozvrachenie-domoj-si-thumb.webp)


