Ноет душа по тебе. Ты уж, милый, пока еще болезнь тебя не совсем загрызла, Прасковью свою изолируй. Мерещится мне, что попала она под эту бомбежку вражескую, от которой пока купол не придумали. Может, так и сохранишься…
Рада я от того, что ты, Тиша, вспомнил, наконец, о сирой и убогой своей сестренке. Но почему-то зовешь меня единственной родной душенькой? И снова я заволновалась: не последствия ли это твоей болезни, не потеря ли памяти у тебя от нее? Про братьев наших – младшенького Савелия и старшенького Митрия – совсем не вспоминал, а перышком брата-то попользовался!
Я же всегда ценила в тебе гуманные и независимые подходы к проблеме человечности. Вот и я хочу следовать им, вспоминая о братьях наших меньших и старших».
Посидел я, подумал сосредоточенно и вспомнил про свое неблагодарное отношение к родственникам своим любимым. Как-то нечестно я поступил – Марусеньке написал только о ней да о себе, а об остальных близких не соизволил даже. Вот поди ж ты, каяться опять приходится. Неровен час, сам себя со свету изведу из-за честности своей гипертрофированной. Так про мою честность сосед как-то высказался, а потом, говорят, помер от бесчестия.
«Митрий, – продолжала поминать сестрица, – Царствие ему Небесное, уходя в мир иной, наставлял: мол, хоть я и выше вас всех по самосознанию, но ваш Бог и судья вознесет вас за такое неистовое почитание мистического и мирного неба и долгое бытие в мире обетованном даст вам. Хоть Митрий по жизни и толкался локтями от амбиций своих немереных, но помер как праведник после слов таких. Благословил наше светлое назначение и любовь свою оставил нам.
А вот Савельюшка – иного поля ягода, может статься, потому, что папенька его был как бы нам и не свой, как бы не одного роду-племени».
Тут вспомнил я вновь про брата своего Савелия, родственного нам. Так что не единственная родная у меня была сестренка Марусенька, но самая любимая, уж поверьте на слово. Мы-то с Марусенькой моей и Митрием жили сначала безотцовщинами, а Савелий – с папой. И только по возмужанию объявился он в нашей семье.
Я по своим мировоззренческим убеждениям – глухомань, консерватор, а тот – неисправимый прогрессист. Тяга к процессам обновления общества горела в его душе неудержимо. Только о революциях и озадачивался. Это я к слову вспомнил и стал дочитывать приятные мне строки письма далее:
«Давеча выдал мне Савелий такое откровение: мол, свобода для него как солнце на небе и путеводная звезда. Утверждал он совсем не то, что мы с тобой о злободневном вопросе рассуждаем. «Настолько я свободен, – говорил он, – что не позволю никому свою свободушку продать, ни за какие богатства, никакой блеск золота не охмурит меня. Лучше уж в омут с головой. Для меня, кроме свободы, нет ничего дороже и священнее».
Сказал также, что наука ныне определенно знает: первым уколом заводят чип по кровотоку к сердцу, вторым закрепляют его на гландах. Чип у сердца местоположение твое указывает и распознает, как дышишь ты – ровно или взволнованно. А от гландов пишут все наши разговоры. Утверждал Савелий, что каждого из нас власть выслеживает. «Сидишь, – говорил, – ты, Маруся, на скамейке у подъезда, семечки грызешь, а они тебя насквозь видят и все твои разговоры, к примеру, против повышения цен записывают. И дельце по крупицам на тебя и каждого такого шибко умного оформляют, сортируя, кто доволен ими, а кто иезуит. Или хоть, – говорит, – возьми меня. Захотел я об обидах каких на власть доложить в посольство американское, а они уже на прицеле меня держат и знают, чем я дышу и о чем помышляю».
Вот я, Тиша, и взволнована за его жизнь такую прогрессистскую. Да еще если его потащат на уколы эти, будь они неладные. Всегда ему больше всех надо – молодо-зелено. А как спрячут его куда подальше – горе какое нам будет. И во всем этом война виноватая. Была бы дружба, и не было бы меж государствами никаких эпидемий. Легко бы жили и не тужили. И Савелий, глядишь, смиреннее бы стал. По посольствам бы не ходил.
Кончаю писанину эту писать, а на душе-то кошки скребут и тревога точит. Приободрил, правда, ты меня, про жениха сказав. Возгорелась я было, чего уж греха-то таить, но будь теперь что будет, как Бог решит. А решит положительно, значит, будет мне с кем в веселье жизнь домаивать.
А так ничего-то от жизни веселого у нас не осталось, одни болезни да расстройства от скукоты. Когда ж радостью-то делиться меж собой будем? Иль время наше ушло, и жизнь чужая застучалась в наши двери?
Читать дальше
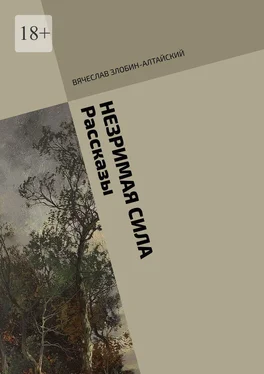

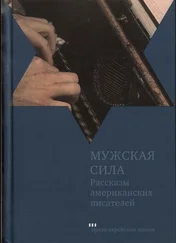




![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)
![Вячеслав Протасов - Мы живем на день раньше [Рассказы]](/books/421425/vyacheslav-protasov-my-zhivem-na-den-ranshe-rasskaz-thumb.webp)



