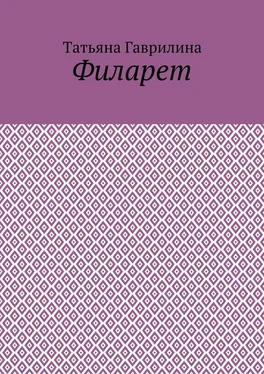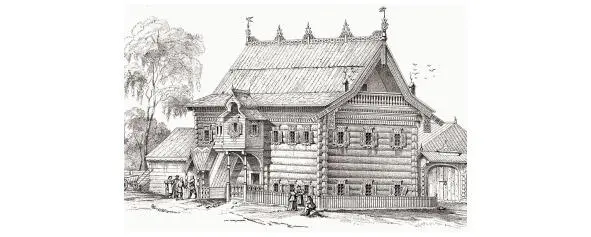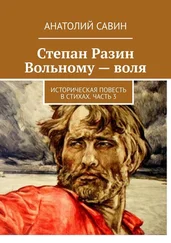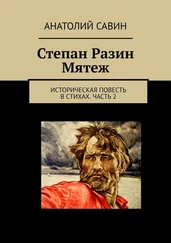Москва едва вступила в новый век,
Как на нее посыпались напасти.
Прошла зима. Сошел последний снег
И, молниями распоров на части
Небесный свод, обрушилась вода!
Дождь лил и лил. Тянулись дни, недели….
Народ терял терпение:
– Когда прояснеет?
Но за сырым апрелем
Последовал такой же гиблый май.
Поля прокисли, слабенькие всходы
Овса, пшеницы, ржи – весь урожай
Гнил на корню из-за дурной погоды.
На хлеб, что сохранился в закромах
Впрок, на посев, купцы взвинтили цены,
И голод мял и тер на жерновах
Истории и день, и ночь в три смены
Людские жизни. И народ взроптал!
Усилились погромы и разбои,
И всяк, кто на ногах был, стар и мал
Шел бездорожьем со своей бедою
В Москву – к царю с протянутой рукой
В надежде раздобыть кусочек хлеба,
Но наливалось новою грозой
И новым ливнем пасмурное небо.
И не было конца такой весне.
Крестьяне вымирали деревнями.
И вся дорога, что вела к Москве,
Пестрела бездыханными телами.
Над городом повис тлетворный смрад,
Им пропиталось каждое жилище.
– Царь – душегуб! Он в бедах виноват!
Он – Годунов 1! – злословил каждый нищий.
Сошлись на тайной вечере князья
И давние противники Бориса:
– Царь духом слаб! Бездействовать нельзя! —
Решали заговорщики: – Нет смысла!
– Да и не нашей крови он, мурза!
– Трон захватил коварством и обманом!
– Кто против Годунова? Все!!! Кто «за»,
Чтоб государем Федор стал, Романов?
Все согласились: – Федор – знатный муж.
– Романов к трону ближе всех по крови!
– Он честен сердцем! Он корысти чужд
И духом храбр, и крепкого здоровья!
Но Годунов зря время не терял —
Он поощрял доносы и наветы,
И сам нередко подло поступал,
Желая сжить кого-либо со света.
Борис не первый год жил при дворе.
Как азиат, он признавал не право,
А ловкость, хитрость, силу и расчет.
Ему уже давно мешал Романов.
Он понимал: Романов – царский брат,
Пусть сводный, но и этого не мало!
И за его права горой стоят
Известные фамилии, и рано
Иль поздно – люди эти задурят.
Ну, а травить царей они умеют,
Всего и дел-то – выбрать нужный яд….
И царь призвал на помощь казначея
Не своего – Романова слугу,
Осыпал его милостью и лаской
И приказал сокрыть в глухом углу
Их дома куль с сухой, душистой травкой,
Потом сложить донос: – «мол, на царя
Романовы – опасные злодеи
Готовят лихо – варят втихаря
Отвар из трав. По виду это зелье
Не что иное, как смертельный яд».
Царь протянул кошель:
– Твоя награда!
И перевел на казначея взгляд:
– Теперь ступай и сделай все как надо!
Сыск учинял окольничий царя.
Он тряс перед Романовым доносом,
Тот возражал:
– Клевещет кто-то, зря!
Пустое! Вот кладовка. Это просо,
Это пшеница. Все запасы впрок!
Хозяюшка, накрой-ка стол для гостя!
Но гость направил палец на мешок:
– А это что? Придуриваться брось мне!
Суд над семьей Романовых был скор.
Романов Федор силой, по навету,
Пострижен был и внове наречен
Перед людьми и Богом – Филаретом. 2
Царь рассудил:
– Уединенный скит —
Антониева пустошь… Чем не место,
Чтоб Филарет был всеми позабыт.
Нам с ним вдвоем в Москве давненько тесно!
– Что встал как столб? Пошел отсюда прочь!
Да прихвати с собой пустые миски! —
Монах метнулся к приставу: – Помочь?!
У! – кулаком затряс он: – Пес Борискин!
Уйди! Да затвори плотнее дверь!
Бориска мыслил, что он самый хитрый,
Но похитрей его сыскался зверь!
Эй, пристав, ты слыхал, царевич Дмитрий 3
Не помер. Нет! Жив! И вернуть готов
Себе и трон, и шапку Мономаха.
Попрыгает еще твой Годунов.
Ждут его шею и топор, и плаха.
Сел на скамью:
– И я дождусь уже!
Мне зримы, пристав, и твои напасти…
– Брось, Филарет, монаху о душе
Пристало думать…. А ты все о власти, —
Прервал его с усмешкой Воейков. 4
– Слыхал я, – он воззрился на монаха, —
От чересчур болтливых ходоков,
Что Дмитрий этот – выходец из ляхов.
– Врут! – Филарет зевнул.
– Еще есть слух, —
Продолжил пристав, – и такое треплют,
Что вышел он из ваших бывших слуг,