Когда бы управлять могла сама судьбой своей! —
Кто воли собственной не знал, всех бедняков бедней.
Она спросила у подруг полуденной порой,
Когда разделась донага, истомлена жарой:
«Скажите, такова ли я — вас да хранит Аллах,—
Какой рисует он меня, иль это бред в стихах?»
Те засмеялись, и таков ответ их дружный был:
«Все у любимой хорошо тому, кто полюбил».
Лишь зависть женская могла внушить ответ такой —
Ведь зависть испокон веков снедает род людской.
Завистницы! Ее зубов блистает ровный ряд,
Белей, чем лилий лепестки, чем белоснежный град.
И день и ночь в ее очах — и чернь и белизна.
Газели шея у нее — упруга и нежна.
А кожа у нее свежа и в летний жгучий день,
Когда неумолимый зной вонзается и в тень.
А в зиму юноше она дарит свое тепло,
Когда устал он и ступни от холода свело.
Своей любимой я сказал в один счастливый час —
А слезы струями лились из воспаленных глаз:
«Кто ты?» — и еле слышно Хинд ответила: «Я та,
Кого измучила любовь, желаний маета.
Ведь из Мина я, и врагов мы уложили тьму,
Они не могут даже месть доверить никому».
«Привет тебе, входи в мой дом, прекрасная жена!
Но как же ты зовешься?» — «Хинд…» — ответила она.
Косулей, загнанной ловцом, забилось сердце вдруг.
В шелках узорных — как копье, был стан ее упруг.
По крови родственники мы, соседствуем давно,
И люди наши племена считают за одно.
Наворожила ты, о Хинд, связала узелок,
Я страстным нашептам твоим противиться не мог.
Кричу я на крик: «О, когда ж свиданья час благой?»
Хинд усмехается в ответ: «Через денек-другой!»
Уснули беспечные, я же припал на подушку,
На звезды глядел, как больной, не смыкающий век,
Пока Близнецы, головней пламенея горящей,
В глубокое небо ночной не направили бег.
Уснули, не знавшие страсти, — и что им за дело,
Что рыщет бессонный влюбленный впотьмах человек?
В ночь, полную ужасов, черного мрака чернее,
В полуночный час я дрожал в ожидании нег.
И в дверь амаритки ударил я кованым билом,
Как будто я родич иль путник, и молвил: «Впусти!
Я жажду любви, и несчастное сердце трепещет
Изловленной птицей, что бьется бессильно в сети».
И тут амаритка в двери молодца увидала,
Который отважен и стыд не намерен блюсти.
И вспыхнула гневно, и грозно нахмурила брови,
Поняв, что я смело в покои решаюсь войти.
Потом успокоилась, гнев ее женский улегся.
А я умолял, как Аллаха в молитве ночной;
Сказал ей: «На десять ночей у тебя я останусь!»
Сказала: «Коль хочешь остаться, останься со мной».
Потом на рассвете, в последнюю ночь, прошептала:
«Скажи что-нибудь, оставайся, мне горько одной!»
«Нет, ты говори, все желанья твои мне законом,
Всевышним клянусь, до скончанья дороги земной!»
«Три камня я здесь положил…»
Три камня я здесь положил и чертою отметил дорогу,
Которой мы шли, и припомнил наш отдых на этом привале,
Друзей и поджарых коней с их очами в глубоких глазницах;
Припомнил, как вышли мы в сад и как весело там пировали.
Припомнил, как пала роса и девушку всю окропила,
В долине, где пастбища фахм — так племя соседнее звали.
Она известила меня, что наутро родня откочует,
Что нам разлученье грозит, что увидимся снова едва ли.
«Останься и жди темноты — найдем себе угол укромный,
Такой, чтоб деревья и ночь от завистников нас укрывали»,
Мы перессорились. Как долго мира жду!
Хинд холодна со мной, а в чем нашла вину?
Увы мне! Я зачах, нет крепости в костях,
Под тяжестью вот-вот колени подогну.
Аллах! Безволен я, притом нетерпелив.
Аллах! Мне тяжело, как пленнику в плену.
Аллах! Люблю ее, она же прочь бежит.
Я долю горькую не попусту кляну.
Пусть мой удел не нов, — всегда любили все,
И впредь останется, как было в старину.
Но я пожертвую и тех, кого люблю,
Весь род людской отдам, всех — за нее одну!
«Возле мест, где кочевье любимой…»
Читать дальше

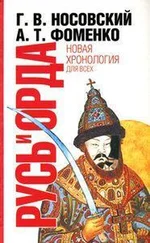


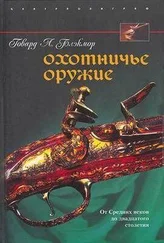

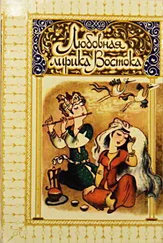



![Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-thumb.webp)
