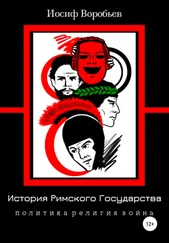Это отношение небесных сфер, в рассуждении их величины и движения, по нашему мнению, хорошо объясняет Фокс. Высшее, или внешнее (крайнее) небо, говорит он (Платон и Аристотель допускали восемь небесных тел), – из всех самое обширное, потому что далее всех отстоит от центра и в своем объеме заключает все прочие. Величина же прочих небесных тел определяется уже сравнительно с осьмым, так как составляет известную его часть. Поэтому и говорится, что шестое небесное тело, по величине, составляет вторую часть того высшего, четвертое – третью, восьмое – четвертую, седьмое – пятую, пятое – шестую, третье – седьмую, второе – восьмую. Таким образом, в восьми телах Платон находит восемь взаимно пропорциональных интервалов, и так как все тела совершают соответственное своим величинам и расстояниям движение; то отсюда должна была происходить так называемая пифагорейская музыка небесных сфер. Так объясняет это место Фокс и высшую сферу называет восьмым небом. Но Платон не соединял с нею этого числа, а понимал ее как τὸν πρῶτον τε καὶ ἐζωτάτω σφόνδυςον: восьмым же телом почитал, кажется, Землю, помещенную у самой оси вселенной. Сравн. Schleiermach. р. 622. Boeckh. De Platon. System. Coelest. Globor, p. VI.
Из восьми концентрических сфер первая, внешняя, есть сфера неподвижных звезд; вторая – Сатурн, третья – Юпитер, четвертая – Марс, пятая – Меркурий, шестая – Венера (См. Tim. р. 38, где Платон допускает такую же погрешность в порядке планет, ставя Меркурия выше Венеры), седьмая – Солнце, восьмая – Луна; а Земля находится на самой оси системы. Чтобы заметить пределы этих планет, или ограничивающие их поясы, которые должны находиться непременно на экваторе каждой сферы, надобно смотреть на них сверху. Эти светлые и разноцветные пределы, по Шлейермахеру, суть не иное что, как различные отблески планет (принимая в расчет особенно зодиак), которых круговое движение столь быстро, что может образовать непрерывную ленту, как образует ее описывающий одну и ту же орбиту раскаленный уголь. Что же касается до различной широты этих лент, то она зависит от того, что планеты и зодиак, не пробегая самого экватора своей сферы, различным образом наклоняются к этому экватору. Отсюда цвета тех лент становятся соответствующими цветам самых звезд. Зодиак представляет различную цветность, по различию звездных оттенков, из которых он слагается. Седьмая сфера, Солнце, очень блистательна, восьмая, Луна и Земля, отсвечивается ее блеском. Желтоватый оттенок второй и пятой сфер есть оттенок Сатурна и Меркурия. Белизна третьей и красноватость четвертой сфер совершенно характеризуют вид Юпитера и Марса.
О двояком движении неба см. Tim. р. 36 В sq. Веретено в целом своем составе, или крайнее небо, – система неподвижных звезд, круговращается всегда одним и тем же образом, в одном и том же пространстве, с одною и тою же скоростью: но прочие семь, внутри его находящиеся тела, совершают движение противоположное и движутся медленнее, хотя не все равномерно. Из этих семи тел Платон самое быстрое движение приписывает Земле; затем Меркурий, Венера и Солнце движутся медленнее; еще же медленнее вращаются Сатурн, Юпитер и Марс.
Платон на каждой сфере сажает особую сирену, которая все отдельные, производимые сферою звуки сливает в один. Таким образом все небо круговращением своих шаров образует восемь тонов – октахорд. Из этого можно заключать, что пифагорейцы составили музыкальный свой октахорд, применяясь к идее гармонии, какую должны производить восемь небесных сфер. Aristot. de Coelo II, 9. Cicer. Somnium Scipion. 5. Macrob, in Somn. Scip. II, 2, 3. Nicomach. Hannon. I, 3; al.
Шлейермахер замечает: Клото – парка настоящего, сообщает зодиаку и прочим неподвижным звездам круговое движение. Атропа, воспевающая будущее, распоряжается планетными кругами так, чтобы между ними происходили известные сочетания и противоположности, которые, как говорится в «Тимее», людям умным предзнаменуют будущие события. На Лахесе, парке прошедшего, лежит обязанность раздавать жребии, конечно, потому, что всякая родившаяся душа принадлежит прошедшему, так как она уже жила: ибо, чрез рождение новых душ, не только не увеличивается число их, но должны постоянно оставаться теми же самыми и различные формы человеческой жизни, и возвращаться периодически на поприще истории, вместе с периодическим круговращением небесных тел. При этом всякой душе предоставлена лишь свобода избирать себе поприще, по времени избираемой жизни, либо должайшее, либо кратчайшее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
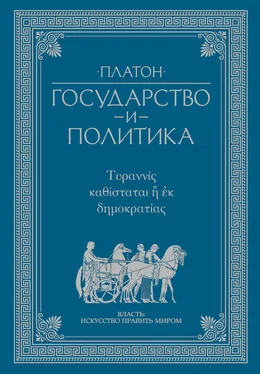



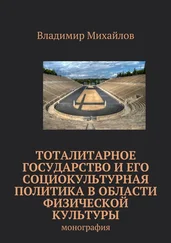
![Журнал «Государство, религия, церковь в - Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/books/416153/zhurnal-gosudarstvo-religiya-cerkov-v-gosudarstv-thumb.webp)