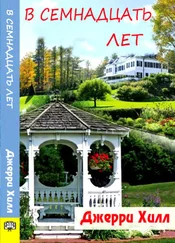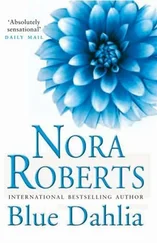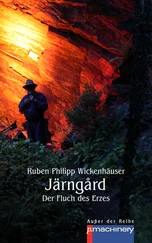Я устала говорить - покатил кураж в обратную сторону – запрокинула голову и закрыла глаза:
- Тук... тук... тук... тук... пииииииииииииииииииииии...
Я услышала, как Полина развернулась на стуле, и почувствовала ее горячий взгляд. На мне образовывались дымящиеся воронки в тех местах, на которые она смотрела. Бах! – рана на губах, я слизнула кровь. Бах! – дырка в щеке - ерунда! Не смотри мне в глаза, только не смотри мне в глаза! Я хочу увидеть Ее. Еще раз. Пусть последний. Не смотри мне в глаза... Не смотри на руки мои... Я хочу любить Ее, любить этими руками, как когда-то... Любить руками и видеть, как Она отдается этим рукам, видеть, как плавится страстью тело Ее, как искажается лицо Ее сладкой судорогой оргазма... Бах! – прошито насквозь плечо. Бах! – в сердце. Навылет. Полина встала и вышла из комнаты, шелестя тетрадью. А я слушала, как затягиваются на мне раны, саднят, зудят, покрываются коркой запекшейся крови моей. Открыла глаза – вижу. И руки целы. Пронесло на этот раз...
- Как же ты ошибаешься, - сказала она из-за двери, будто выстрелила вдогонку. Расплылось под лопаткой алое пятно...
- На счет редакторши? – съязвила я.
- На счет всего...
Мне надо было дожать, довести ее до правды. Докапать так, чтобы переполнилась чаша ее терпения и полилась бы истина, пенясь обидой и неприязнью. Но – пропал хмельной азарт, навалилась мне на плечи равнодушная усталость, опечатала молчанием мои уста. Я прошептала:
- Да к чертям всё, - и пошла спать.
...
Иногда Полина режет меня. Когда лава в ее взгляде остывает, а ей лень раскочегаривать эту топку, она берет стальную заточку, изготовленную за многие месяцы в камере одиночного заключения, и начинает резать по живому:
- Ты никто. Тряпка, безделушка, пустячок. Вся твоя ценность – в умении работать руками и ртом.
Она пьяна и беспощадна. Бросаемые петли ее фраз падают мне на плечи, затягиваются, врезаются в горло:
- Кого ты любишь, кроме себя, а? Кого? Ее? - она противно захихикала. – Ты никогда не простишь Ее за тот поцелуй. Потому что в тебе дерьма полно. Ты никто! Молчишь... Конечно, тебе ответить нечего! Кто ты? Кто?
Терпеть не могу в стельку пьяных женщин – их разбирает либо похоть, либо неуправляемая злость.
Полина в ярости, она готова убить меня, но не может встать с кресла. Это бесит ее еще больше. Она бросается вперед, чтобы расцарапать мне лицо, но безвольно повисает на моих руках. Пока я тащу ее в спальню, она шепчет:
- Кто ты? Кто ты?
Этот вопрос не дает ей покоя.
...Полина, к чему тебе этот ад? Она спит, но лицо искажено злобой. И во сне она ненавидит меня. Я провожу ладонью по ее щеке: - Зачем я тебе?
Утром она будет прятать глаза и натянуто просить прощения. Сложно извиняться, когда не помнишь за что. Я заварю ей свежий чай с мятой, найду таблетку аспирина, включу ее любимый фильм. А потом, сидя в кресле, буду смотреть в телевизор невидящим взглядом и слово за словом убирать из себя ее вчерашние пьяные выкрики, вытапливать ненужную обиду и горечь, укрощать взметнувшееся было раздражение...
Шагами измеряют пашни,
а саблей тело человеческое.
Но вещи измеряют вилками.*?
Следуя этому положению дел профессора Гуриндурина, Полина измеряла тело мое саблями, шагала по перепаханному вдоль и поперек полю моей души. Через какое-то время я была в шрамах и ее следах. Она измеряла меня и вилками, как свою привычную вещь. Я покорно соглашалась. Отдавала себя на растерзание, видя в этом какой-то смысл. Я взяла в долг золотой слиток и расплачивалась теперь за него вытертыми медяками...
Однажды Полина заплакала. Я испугалась, что что-то случилось. Оказалось – просто резала лук для рагу. А я подумала, что во всем есть своя двоякость. Кругом сплошные вытертые медяки с реверсом и аверсом. Или луны с темной обратной стороной. С медяками проще: подкинул на ладони и – опа! – орел, еще разок – решка. Никаких тайн. Слезы от лука, смех от марихуаны, любовь от похоти, смерть от суицида – поиграем в реверси? Выигрывает проигравший...
...
Она смотрела так, будто собралась разобрать по частям и растащить меня на сувениры.
- Полина, что случилось?
Она отвела взгляд:
- Ничего.
Мы сидели на скамейке в опустевшем уже парке. Откуда-то издалека доносился приглушенный шум улицы, словно пропущенный через старый патефон, а здесь – под тенью большого старого клена было сыро, сумрачно и торжественно. В такой атмосфере объявляют войну, предают анафеме и создают фантасмагории. Мы не занимались ни первым, ни вторым, ни третьим. Полина смотрела на меня и решала, кому раздарить будущие миленькие сувенирчики. Я курила, выпуская колечками дым в темнеющее небо, нависшее над парком по-осеннему прозрачным флером.
Читать дальше