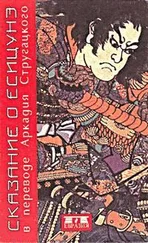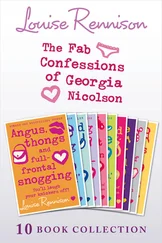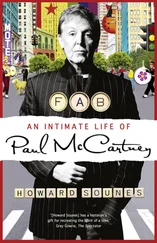Исида и Осирис! Вы - религия несовпадений, единственное, что имеет место быть, и какая разница, весна ли это, зима ли - под почвой в одной утробе старуха и младенец, и так всегда. Боги мои, как противоестественна зима, но беременность весны ужасна. Сморщенная кожа земли покрыта волосками сосен. Под нею зреет солнце точно нарыв, и нет сомнения, что трава и сок, бурлящие в глубинах, питаются лишь гангренозным Стиксом. Все по ту сторону зрачка, текучее, расходящееся, купаясь в начальной листве, и этот выдавленный вечер - тень от ветром наклоненных тополей, и даже пыльное золото августа не окончательно, утекая в сентябрь, а дальше будет снег; я ничего не хочу оставить со мной и ничего не хочу так сильно, и это так просто, что тонешь в самом себе. Это не значит вскрывать асфальт, стрелять по плоти окон, апельсинов в ночи сияющих, пить чай на кухне в сумерках осенних, блевать под утро и курить пятирублевую сигару, сухопорно грезя о любви. Это похоже на поверхность, и скоро будет дождь. Она ждет, ее бедра пылают, нагие яблочные бедра, ладони сжимают грудь и губы сочатся вином. Но завтра настанет, и завтра ничего не будет, кроме…
Помолчи. Хаос. Хаос приходит в движение. Масса вращается - один оборот, изгиб, другой оборот. Это втягивает. Не могу удержать.
И вдруг все вздрогнуло и потекло как расплавленная бронза, смешиваясь в одно, возвращаясь во что-то, чему я лихорадочно ищу название, и не нахожу. Как будто я снова лежал на койке, читал переводное французское и думал о смерти, скользя по гранитной крошке слов. Ведь это не было - это продолжается, и думая о том, что все кончено, и дело даже не в бандитских банках из-под денег, маринованных предательством и кровью, я с первобытным изумлением спросил себя: неужели это все? Неужели не останется ничего, что я считал своим, неужели я никогда не раскрою себя и не наполню собой этот мир, каким бы он ни был? Ведь я казался, а не был; как много сказано!
Но не сказано ничего. И как, и за что мне зацепиться?
Меня уносит, уносит…
С колоссальной неохотой, через не могу, пробивая сальный лед и горные породы, сквозь голоса и мелькание лиц и привычек, будто в круге хохочущих надо мной поднялась такая простая догадка, что - ДА,
ЭТО ВСЕ, и у меня ничего нет и никогда не было, даже того, кто спрашивал об этом.
Я готов был взорваться. Я сжался в укол, оставленный иглой на поверхности воздушного шара до миг до хлопка. И сверкнув на самой глубине высот, пошла взрывная волна, через обманчивую тяжесть, через тьму и свет, сквозь болото, где спрятались миллионы людей, пряа страдание в нем самом… Как трудно увидеть даже край истины. А чтобы принять ее, придется изменить в себе все, и смести перегородки окончательно, как римляне смели останки Карфагена и своего вечного страха, и позже перестали быть. Господи, - подумал я, - так много слов и ошибок, а ведь я даже не начинал дышать. При чем здесь это тело? При чем лицо в этом паспорте? Мысли?.. Какое будущее? Какое прошлое, в конце концов? И кто эти люди, кто впустил их в мой ум?
Неточно, неуклюже, некрасиво. Взрыв бомбы там, где хватило бы одной-единственной пули, - если, конечно, цель ясна… Но что думать? И кому? Что, из чего я должен выбирать, если все одно?
Пора на выход. Смотри, уже спадают титры: тела, потребности, судьбы. Эго . Я не знаю, что это такое, но вряд ли оно нуждается в геройском служении, в прыжках на амбразуру и даже в стакане чая на столе, если все - попытка ухватиться за бумажный лист, плывущий в необъятном океане. И что еще ты видел в нем, кроме листа? И что же, спас он тебя?
Билет на парижский рейс горит так же, как все остальное. Поднеся лучину к сигарете, бросаю пепел в лужу будто в туман. Круги по воде, скользнув, исчезают в сосновых иголках. Тишина. Сидя в саду
Гесперид, на побережье Байкала, центрального моря страны Нифльхейм. Центральное море каждой страны, отчаянно ждущей рассвета, артезианская скважина, ушко иглы, сквозь которую идут караваны иллюзий.
Ветер несет запах свежевскрытого арбуза. Накрапывает дождь. Комната с сиянием внутри все дальше уплывает в темные кущи. Мягкий мощный шелест тишины: там снова начался прилив.
Мысли струятся, уходят как боль. Сердце дышит свободно. Согнувшись на скамейке триумфальной аркой сквозняка, я говорю себе что-то простое до полной невразумительности, загадочное, странное, величественное, словно наблюдаю Старшую Эдду с сурдопереводом. Не уходи. Останься еще день, ночь, осмотрись, повторяю тебе, пусть все слишком серьезно, но это проходит, даже это. Побудь немного, говорю тебе. У них нет власти над тобой, будь правилен, будь весь, не казни себя, останься. Вы здесь. Вы - последние люди. Дальше только деньги и слова.
Читать дальше