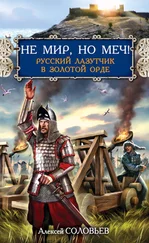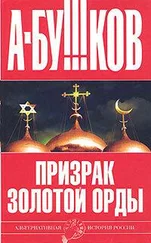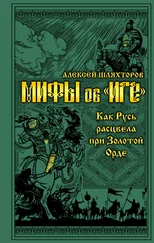В дланях держит чашу смерти и копье,
Завершая человека бытие.
Он, прижав к моей груди конец копья,
Дал испить из чаши горького питья,
Изрекая: “Коль придешь когда в себя,
Вновь друзей увидишь, Бога возлюбя”.
Чуть испил — не стало вмиг земных вещей,
Изошла душа из высохших мощей,
Ни казна, ни власть, ни весь соблазн земли
Удержать ее на свете не смогли».
Череп молвил: «Слушай далее, пророк!
Снова очи отворил я в некий срок,
Вижу — в саване лежу, в земле, впотьмах,
Телеса мои, гляжу, истлели в прах.
“Где престол мой, — я вскричал, — и где казна?
Кони где мои и шубы, где страна?
Где рабыни и супруги, все блага,
Где рубины, изумруды, жемчуга?
Где друзья и то приятное житье,
Где изысканные яства и питье?”
Оказалось все тщетой и суетой.
Не осталось ничего от жизни той.
Тут в могильной шелестящей тишине
Два престрашных существа явились мне.
“Кто вы?”, — спрашиваю, ужасом объят.
“Мы — загробные писцы”, — мне говорят.
Оторвав полоску смертной простыни.
На нее мои деянья нанесли
И сказали: “Ты видал при жизни рай,
Ныне адские терзания узнай!”
Задрожал я, и застлала очи хмарь:
“Что же сделал ты с собою, Череп-царь?”
Крепко взяв меня в тиски, в чаду угроз
Учинили мне с пристрастием допрос,
И на жалобы в ответ — что было сил
Каждый ангел тяжкой палицею бил.
После новые мучители пришли,
Раскаленной цепью шею оплели
И погнали в этом огненном ярме
Прямо в полымя, ревущее во тьме.
Жаждой мучимый в той огненной беде,
Я молил истошным криком о воде,
Но они, разжав мне зубы, средь огня
Напоили едкой горечью меня.
Я испил ее — и с первым же глотком
Все нутро сожглось каленым кипятком,
Несносимо стало больно животу,
Все навек спеклось в гортани и во рту.
Снова начали силком меня поить:
«Не хочу, — им закричал я, — больше пить!»
Палачи меня по окрику старшин
Заковали цепью в семьдесят аршин,
Били боем, и напрасен был мой крик,
Принялись потом вытягивать язык:
С языком, как бич свисающим с плеча,
Снова в пламя потащили, волоча,
Снова бросили в пылающую печь…
Эти муки передать бессильна речь.
О пророк, в пределах адского огня
Несказанные терзанья принял я.
Этот пламень — он жесточе, чем пожар:
Этажами вниз идет слоистый жар,
И круги его, чем ниже, тем жарчей
Полыхают злее тысячи печей.
Каждый круг, своим названьем именит,
Детям Евы и Адама надлежит.
Самый первый круг там “Бездною” зовут,
Пыл его невыразимо зол и лют,
Лицемеров истязают в том кругу:
Там их столько, что исчислить не смогу…
А еще узрел я муки, господин,
Безобразных обезьяньих образин, —
Тех, кто низостью позорил белый свет,
Ближним-дальним нанося ущерб и вред.
А еще в кругу огня узрел я тех,
Что ходили носом вниз — ногами вверх:
Это — те, что ублажали гордый нрав,
Всё кричали “Я!” да “Я!”, носы задрав.
Свыше тысячи ремесел превзойди, —
Все равно пред Богом “якать” погоди…
Также видел я средь адовых огней
Нечестивцев грешных с рылами свиней, —
Что сновали по стране вперед-назад,
Смуту сеяли в народе и разлад.
А еще я видел там другой народ —
Слепошарых, что бродили взад-вперед, —
Тех, кто век своих грехов не замечал,
Но в соседях все огрехи отмечал.
Безъязыкий люд я видел в корчах мук
И других, что не имели ног и рук.
Те, что корчились, мыча, в кромешном зле,
Были судьями когда-то на земле.
А лишенные конечностей — в миру
Издевались над соседом по двору.
И другое племя мучимых теней
Видел я средь очистительных огней.
Бродят, свесив языки в аршин длиной,
С языков тех истекают кровь и гной.
Читать дальше